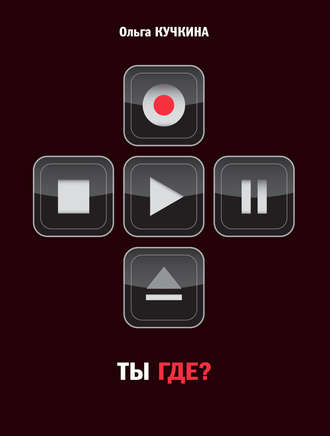
Ольга Кучкина
Ты где?
© Ольга Кучкина, 2015
© Валерий Калныньш, оформление, 2015
© «Время», 2015
* * *
1. Авария
Тормоза издали поросячий визг, мгновенно вызвав в памяти так и так никогда не забывавшийся эпизод с хряком Васькой, когда того, щедро кормленного с весны до осени, розового, с задорной завитушкой хвоста на толстой попе, не обращая внимания на последний пронзительный и пронзающий крик, самочинно, набычившись, приканчивал на чурбаке отец. Послышался хруст стекол. Они хрустели похоже, когда в их окно на первом этаже запустили булыжником, и он знал, кто это сделал, лучший школьный дружок, на котором он взял привычку отыгрываться за все, особенно обозлившись из-за отца и тетки из собеса на весь белый свет. Грохот мнущегося, корежащегося металла напомнил раскаты грома в ту грозу, когда темное небо свалилось на них, удиравших с речки что было сил, чтобы не попасть под острие огненного росчерка молнии, как попал дядька Еремей, мертвый весь посиневший, чего не скрыл и щедрый грим, которого не пожалела служительница морга и которого живой Еремей отродясь не знал, крепкий мужик, сиделец, а не какой-нибудь, положим, актер или гомик, слова такого и в заводе у них не значилось.
Финальные звуки длились одно растянутое, как старый носок, мгновение, пока боль, огромная, чудовищная, безобразная, не залила целиком весь мозг, всю его серую кишкообразную массу, какая демонстрировалась на учебном пособии в школе, а тут не пособие, и безумные сигналы шли во внутренние органы, конечности, костяк, носовые впадины, челюсти, глазные яблоки, которые, казалось, вот-вот выскочат из орбит, а может, уже и выскочили, проверить нечем, переполненный болью головной шар, огромный, как земной шар, не выдержав больше неземного страдания, лопнул, и все-все-все на этой земле для него кончилось. Бензин кончился.
Толпа спасшихся от рушащейся громады Hummer’а все увеличивалась. Конкретно спасшихся насчитывалось пятеро: две женщины, мужчина, подросток и старик. Обращал на себя внимание старик. Согбенный, опирающийся на палку, с длинными космами обесцвеченных годами волос, он молодецки отскочил в сторону от наезжавшей на тротуар громадины внедорожника и теперь, приподняв над искривленным туловищем голову, смотрел на уличное происшествие безэмоционально, запасы эмоций в нем кончились, а жизнь продолжалась, в то время как другая жизнь, фактически цветущая, зрелая и спелая, какой еще цвести, зреть и спеть, завершилась. Подросток на скайборде, сдвинув бейсболку на затылок, судорожно сглотнул воздух, крутанувшись на месте, энергия из мальчонки била ключом, требовалось сходу обуздать ее, чтобы сперва спастись, а затем осознать свое спасение, так физика уступает психике, когда нарушается привычный строй вещей, но тут же физика берет свое, чтобы дать возможность психике уложиться в прежние формы. Молодая женщина, на шпильках, прижав модную сумку к груди, с застывшей маской ужаса на лице, секунду назад отступившая даже не на шаг, а на полшага от смертельной опасности, мягко повалилась на бок, как бы охваченная внезапно волшебным сном. Доброволец из толпы зевак ринулся к ней, другие зеваки его остановили, как бы очертив невидимый круг, за который не стоило заходить до приезда милиции и скорой. Их уже вызвали, сирены завыли буквально через минуту, а буквально через две – профессиональные люди приступили к своим профессиональным обязанностям, в то время как непрофессиональные продолжали глазеть на это захватывающее, не коснувшееся их лично, чужое кино.
Спасшийся мужчина с лицом, на котором ничего не читалось, высоко поднимая ноги, ровно в замедленной киносъемке, зашагал прочь.
Жизнь, перетекающая в текст. Фантазия, оборачивающаяся реальностью.
2. Завтрак
– Величие замысла, величие замысла… – бормотал он про себя, выскребая ложкой с тарелки остатки воскресной гречневой каши, отчего получался неприятный звук, царапавший душу и ушу.
Ушу. Ударение на последнем слоге. Надо: уши-души. Кому надо? Никому. Ни уш, ни душ. Ни ушей, ни душей.
Добавочная выскочила строчка: надо было оставить в живых это грязное тело.
Грязное тело никоим образом не связывалось с величием замысла. А может, и связывалось, да он не понимал. Глупости сами собой лезли в его умную голову. Тогда он ставил свое клеймо, сочиненное ненароком: е-банан. Чтобы отскочило, заклейменное. Он придумал эту чудацкую поговорку, отговорку, приговорку ненароком, вместо мата, который в устной речи не употреблял, исключительно в письменной. Е-банан, не раз задумчиво оценивал что-то или кого-то, вслух и про себя. Или: маразм супердамский. Выскочило однажды и привязалось. Слова толпились в голове, знакомцы и незнакомцы, вызывая и называя себя с целью и бесцельно, относительно чего-то и безотносительно ни к чему. Он как-то многое переставал понимать. Чем дальше, тем больше. Он терзался непониманием и вместе с тем лелеял его. Он зависел от него, потому что оно и только оно по временам вознаграждало за его мучения, приоткрывая дверцу познания и обнажая ход вещей.
Он не был ни нищ, ни гол, ни бос. Он был славен, состоятелен и даже хорош собой, ровесник своему сыну. Как сын, носил длинные волосы, заплетая в косичку или распуская по плечам, волнистые, шелковистые от хорошего питания и хороших шампуней, отличие в том, что у сына золотистые, а у отца серебряные пряди, рассекавшие тьму темных, что, впрочем, шло его молодому, гладкому, без морщин, лицу. Джинсы, потертые и в прорехах, носил тоже, как сын. И кашемировые свитера, как он. И майки с печатными текстами American eagle и Pump pump. А упругие и по сю пору шары мускулов, катавшиеся нескрываемо под свитерами и под майками, в сравнение не шли со слабой, проминавшейся под пальцами плотью Сеньки. American eagle – Американский орел – носил из дерзости. Pump pump обладало тайным смыслом. Pump pump – качание. Не только мускулов. Нефти. Нефть его интересовала. Не столь как источник богатства, сколь как кровь, текущая в жилах Пантагрюэля-государства и Гаргантюа – народного тела. Хотелось бы выяснить, к чему вело безжалостное отворение крови. К выздоровлению или смерти. Помимо прочего, надпись на майке намекала на успех: нефтью заливались удачники. Девочки до сих пор засматривали в его агатовые зрачки, похожие на козьи орешки, и дыханье спирало недоразвитые девичьи грудки. Он и сам походил на козу. Именно на козу, с ее козьей грацией, поднимись она на стройные задние ножки. Он все ведал про себя, но старое ведание – вђданіе, как иногда задумчиво доводил до его сознания отец, учитель истории, – пылилось без пользы на том чердаке, где невидимое течение времени пылью засыпает любое величие и любую ничтожность, и он скреб мельхиоровой ложкой по днищу фаянсовой тарелки, вроде это алюминиевая ложка и алюминиевая миска, какие давались в пользование солдатам и заключенным, и ощущение тотального несчастья наваливалось на него, и в мире не оставалось ни единого крючка, чтобы накинуть на него петлю, чтобы заплести хоть какую веревку, схватиться за нее и выбраться из трясины, хлюпающей своим жидким и вонючим, засасывающим до безнадеги.
Не писалось.
Вошла Злата.
– Господи, что ты делаешь, Перепе́лов! – сморщилась она, взмахом руки как бы отодвигая от себя скрежещущий звук.
Ее большое плотное тело передернулось, так что полные груди метнулись сначала направо, потом налево – опять она ходила без лифчика. В молодости ей было что подчеркнуть, спустя годы следовало бы соображать, что зачеркнуть.
Она называла его Перепе́лов, отлично зная, какую досаду у него вызывает. Она нарочно его злила, и ему хотелось ударить ее, что он позволил себе однажды и больше не позволял: пережитое им, когда она встала на подоконник и распахнула створки окна, запомнилось навсегда.
Она не завтракала, вроде бы пытаясь вернуть прежнюю фигуру, фигура не возвращалась, ничего не возвращается, иногда он раздраженно звал ее, чтобы задать незначащий вопрос о каком-нибудь незначащем пустяке, она выходила из комнаты, наблюдала, как он ест сваренную ею гречневую кашу или поджаренные сырники, скучала, чтобы занять себя, приносила из ванной флаконы с лаком для ногтей, переливала в один флакон содержимое остальных, ему хотелось неосторожным движением руки смахнуть все их на пол, он сдерживался, как давно уже сдерживался на кухне, в спальне, в гостях, везде. У него болела, а то и кровоточила язва, что являлось прямым следствием внутренней политики сдерживания, болеть и кровоточить переставало, как только начинался роман.
Сейчас язва молчала.
– Где Сенька? – спросил. – Давно не виделись.
С языка Златы, судя по выражению ее лица, готовилось сорваться что-то другое, но и она сдержалась.
– Ночует у подружки.
– У какой подружки?
– Не спрашивала.
– Он тебе сказал?
– Сама догадалась.
– И ты ему разрешила?
– Что разрешила?
– Ночевать вне дома.
– Ты помнишь, сколько ему лет?
– Сколько?
– Двадцать один. Ты в этом возрасте уже женился на мне.
Перепелов бросил ложку на стол и невидящим взором уставился в окно.
Могла бы не напоминать.
Дрянь.
Кто?
Она? Он? Сын?
Можно поблагодарить Бога, что у парня завелась подружка, а то грозила опасность, что так и останется в девках, настолько зажат и не расположен к женскому полу.
От Златы пахло спиртным, смесь неприязни и жалости тяжелила голову.
– Я пойду, Перепе́лов…
Всю жизнь она звала его по фамилии. Первые годы в протяжном прелестном голосе звенела сплошная нежность. Тогда она делала ударение на первом слоге, как и полагалось, хотя в официальных бумагах, удостоверявших личность, ударение не ставилось, но знавшие его и так были осведомлены, что он – Пе́репелов. В школе учителя называли его Перепело́в, но помнил это он один. Она смотрела на него своими большими серыми в пушистых черных, низко набегающая густая пепельная челка работала как занавес, создавая таинственную игру тени и света в зрачках, и сумасшедшее отроческое изумление не покидало его: неужто все сложилось, как сложилось, и они в самом деле составили пару! Выпавшая ему как лотерейный билет, она проводила прохладной ладошкой по его щеке и говорила, смеясь:
– Побрейся, Перепелов, сегодня к нам в гости придет твой любимый классик и решит, что красавица Злата Майзель вышла замуж за бомжа.
3. Обед
В кругу, в какой он попал, она так и именовалась красавицей Златой Майзель, гарвардская щетина входила в моду, и Злате нравилась, но старшее поколение относилось к небритым юнцам с подозрением, не комбатанты ли, а если комбатанты, то какого рода, либо не алкоголики ли, притом, что сами отравлены алкоголем плюс заразным воздухом, каким дышали много лет, больные претендовали на роль лекарей возле относительно здоровых, не успевших поддаться заразе, просто потому что период отравления короче. Перепелов решал: уже наплевать на мнение классика и задраться или еще немного посклонять голову с видом искренней ученической заинтересованности в учительских речах.
Классик возник, и Перепелов задрался.
Худенький, как подросток, классик носил на узких плечах крупную львиную голову, на которой стянутым в бабий узелок добром смотрелось мелкотравчатое лицо с небольшим тазиком рта, небольшим башмачком носа и подувядшими, некогда круглыми яблочками щек. Он мало говорил, а когда говорил, бросал реплики значительно, будто камешки в воду, круги от них расходились, сидевшие за столом, и раньше, между закуской и основным блюдом, изливавшие обожание на него, с подачей горячего и вовсе переставали жевать, затихали и внимали благоговейно, горячее на тарелках популярного в среде интеллигенции, поскольку единственного попавшего в советскую торговую сеть, английского сервиза стыло. Один Перепелов, по молодости лет постоянно голодный, не отрывался от знатного куска баранины, что по доброте сердечной выделила ему недавно обретенная теща, врач-гинеколог по специальности и кулинар по призванию, Мария Майзель, которую ему дозволили звать Машей, так же, как недавно обретенного насквозь лысого тестя – Гришей.
– Меня тут позвали в телевизор, – ронял весомо, забивая тему, классик. – Интересовались. Что из последнего мною читанного произвело наибольшее впечатление. Могу ли я назвать кого-то из младой поросли своим наследником.
– И что вы ответили? – с любопытством, слава богу, что не с придыханием, спросила Злата.
– Ничего.
– То есть ничего не ответили? – уточнила Маша Майзель.
– Почему же, ответил. Ничего, ответил я. Ничего не произвело.
– И это все? – наивно удивился Перепелов, с сожалением глядя на быстро тающий сочный кусок на своей тарелке.
– Нет, не все.
Классик вытер сначала рот, потом пальцы белоснежной салфеткой, отчего на ней сразу проступили жирные пятна: Маша Майзель, бывшая Маша Шубникова, неслух, бурно сопротивлявшаяся воспитанию отца с матерью, скромных, но ограниченных членов партии, а главное, бабки Шубниковой, истовой старой большевички, Маша невесть откуда взяла привычку держать крахмальное постельное и столовое белье в доме. Если точнее, в доме третьего мужа. К нему, не задумываясь, сбежала из дома мужа второго. Первый не упоминался по той причине, что своего дома не имел и гужевался у Шубниковых недолго: уходя от него, Маша уходила из родного дома под анафемские возгласы большевиков. Зато в доме Гриши задержалась насовсем и принялась крахмалить белье, наследуя, должно быть, какой-то неведомой прабабке, существование которой большевиками скрывалось.
– Не все, – повторил классик.
И поведал захватывающую сагу о том, как в три часа ночи ему позвонил некто из младой поросли, в дупель, и, мешая пьяные слезы с матерщиной, принялся ругаться, что остался без упоминания.
– А почему ты обязан был его упоминать? – поднял вверх пучки бровей Гриша Майзель, бывший с классиком на ты по причине старинной дружбы.
– Он приходил ко мне со своими сочинениями.
– Ну и что?
– А то, что я имел глупость похвалить одно.
Классик залез тщательно обтертыми пальцами в львиную шевелюру в слегка комической растерянности, нуждавшейся если не в сочувствии, то в понимании. Впрочем разыгрывался театр. Прежняя чувствительность не первый год как забронзовела в нем наряду с чувственностью.
– Соврали, значит, мальцу? – не стал деликатничать Перепелов, по дурной привычке, приобретенной в армейской казарме, спасибо, что не в тюремной камере, скребя вилкой по опустевшей тарелке.
Тень недоумения мелькнула в глубоко посаженных, поглощающих, а не отражающих свет глазках классика.
– Да нет, – пошевелил он пальцами воздух вокруг себя. – Малец не без способностей.
– Вы просто не вспомнили о нем в тот момент, – подсказала другу семьи Маша Майзель.
Классик не принял подсказки:
– Одно – поговорить с человеком приватно, и другое – выделить его из массы. А уж во всеуслышание объявить наследником – тем более.
– Разумеется, есть же гамбургский счет, – протер голый череп от шишковатого затылка к обширному лбу Гриша Майзель.
– То и оно, – с важностью согласился классик.
– Да какое то и какое оно? – неожиданно вскинулся, как будто еще голодный, молодой Перепелов. – Этот ваш гамбургский счет – дубинкой размахивать, чтобы никого больше к раздаче не допустить! Кто успел взобраться на литноменклатурную лестницу, тот молодец против овец! А у подножья – овцы шумною толпой! А молодец гамбургским счетом их по башке, по башке, чтобы знали место! И даже если какую овечку приветят, так это не про них, а про себя! Свои широту, долготу и высоту показать! Вы им гамбургер хотя бы подали взамен гамбургского счета!..
Злата прыснула, но тотчас сделала вид, что поперхнулась.
– А вы, кажется, тоже из них? – на миг слепив оладьи век, срезал нового члена семьи Майзелей их старый друг.
– Из кого? – прищурился Перепелов.
– Я же тебе говорил, это его разворот Затейливая напечатала, – заступился за зятя тесть.
– А, – невразумительно открыл рот классик.
– Он наш, – негромко дополнил тесть.
– Ваш? – проницательно спросил классик.
– Наш, – повторил Гриша со значением.
Классик повернулся к Маше Майзель:
– Замечательно приготовлена баранина. В Грузии такую делают.
4. Газета
Классик гордился грузинскими корнями, ветвясь на столичной почве, они давали свежие, душистые, с подрумяненной солнышком кожицей, покрытые мягким светящимся пушком плоды, обольщавшие Перепелова. Он знал, однако, что не должен переусердствовать, поддаваясь обольщению чужих слов и словосочетаний. Отдельность представляла собой более выгодную площадку для старта. Гибкий ум Перепелова скользил по поверхности с той же предначертанностью, что и при погружении вглубь. Его, перепеловская, классическая провинция плюс последующие исхоженные пути-дороги родины фонили, то есть составляли фон, ничуть не менее успешный, чем классический Кавказ классика. Исписав гору школьных тетрадок с тем, чтобы позднее без угрызений уничтожить все, разорвав, выкинув на помойку, предав огню газовой горелки, Перепелов вырабатывал свою стратегию вхождения в мир, о каком грезил сызмала за последней партой среднего учебного заведения, изрезанной его же ножичком, когда рифма не шла. О нем же грезил после сеанса в кинотеатре Юность, завсегдатаем которого стал по жизненным показаниям, выходя из кинозала с громким сердечным колотьем, и откуда-то из межреберья выскакивала строка типа: походным маршем уносило нас на запад. Хотя ни похода, ни запада в биографии о ту пору никоим боком не просматривалось. Грезил в детдоме, сражаясь с детдомовскими до первой крови и победив или потерпев поражение, без разницы, зато почти бессознательно запоминая ощущения впрок. И, конечно, когда долговязым парнем, а по сути все еще мальчишкой, в стогу сена, задыхаясь и обирая с себя прилипшую к потному телу колючую траву, обмирал от сладости, сжимая сильными ногами икряные ноги девки, с которой свела поездка в рабочем автобусе где-то посередке России, и оба, отложив свои ничего не значащие дела, по каким вышли на остановке, и, перебрасываясь ничего не значащими фразами, двинулись сперва по израненному, как после войны, асфальту, затем лесосекой и полем, по тропе, к стогам, где ничто третьим лишним не могло втиснуться в то, что от века происходило между двумя, а вот, поди ж ты, втиснулось, вписалось и тут, и как школьное задание себе давал: не позабыть эту сухую колючку, и капли смешавшегося горячего пота, и ее растянутые лиловые трико, – и с этого начал роман, который скоро бросил. Грезил, спустя несколько лет, в зимнем армейском карауле, в Подмосковье, когда, отморозив ухо на ледяном ветру, ввалился к фельдшерице, и вместо того чтобы растереть ухо протянутой ваткой со спиртом в протянутой бутылочке, мгновенно опрокинул бутылочку в себя, заработав по этому же уху, а после сочинил басню, начинавшуюся со строчки: однажды бодрым сизым днем, решив погреться спиртом. То есть, и проживая в срединной России, и бродя по ее окраинам, и приближаясь к столице, он устремлялся к писательству, идя к цели не торопясь, однако неуклонно.
Первоначальный выстрел удался.
Статья в Затейливой газете наделала шума. Собственно, рубрикации статьи напечатанное не поддавалось. На двух полосах расположились неприбранные, острые и бескомпромиссные, залихватские мысли, какие только могут уродиться в двадцатилетней голове, перемежаясь с неуместными, но отчего-то гожими пейзажами, рассеченными неожиданным женским портретом, впрочем, как-то вписавшимся в контекст, воздушным, туманным и одновременно густо земным, написанным теми красками, что ровно и получалось между пастелью и маслом, тенью и светом, являя собой скорее предчувствие, нежели реальность, – может быть, предчувствие Златы Майзель? – и все это вдруг резко выходило на политическую коду, бескомпромиссную, хулиганскую и злую. Дерзкая парадоксальность сравнений, соединений, сочетаний, невозможных, но случившихся, выводила автора из ряда, покоряя, возможно, даже против воли читающего.
Так опровергалось предыдущее, внедрялось дотоле недозволенное, расчищалась поляна, – для того орудовал топором. Не исключено, что им и нравилось потому, что сами недобрали в молодости, зажатые в тиски дозволенного.
Восхищенный редактор стлался перед новичком, утвердив молодого Перепелова в уверенности, что с ними только так и нужно, бескомпромиссно и зло.
Скоро-скоро отвязный постмодернизм войдет в моду где хочешь. От живописи до журналистики, от собственно моды до персональных отношений, где фрагмент станет важнее целого, рванина норовит выступить в роли царицы материи, катастрофа с настойчивым упорством будет выдавать себя за гармонию, нагло вытесняя ее. Перепелов был первым.
В одно мгновенье он проснулся знаменитым, и то, что классик делал вид, что слыхом о нем не слыхивал, выдавало его классическую уязвимость, всего и делов. Перепелов простил ему, жалея старичка, не то чтобы уязвляя его про себя еще и в физиологическом смысле, а всего-навсего адресуя ему словечко, каким перебрасывались, как мячиком, что в том, что в этом поколении. Перепелов больше чем жалел – он ценил классика. Злата, когда называла его любимым классиком, знала, что говорила. Но и Перепелов знал, что делал, и когда Злата прильнула к нему, млея, зачем, дескать, задрался со старичком, честно объяснил, зачем.
Они находились еще в том скоропортящемся состоянии и скоропреходящем возрасте, когда в постели больше говорят, чем ласкаются физически. Им надо было столько сказать друг другу, что когда ласки достигали апогея и разрешались нежной слезной влагой везде, где положено, неизвестно, что тянуло больше, интимная физиология или сокровенные признания, вопросы без ответов и вопросы с ответами, после которых близость делалась еще ближе и все начиналось сначала.
То, что Перепелов принес в газету, переписывалось на машинке из черной клеенчатой тетради, еще отцовой, учительской, которую подросток, экспроприировав при бегстве у отца, таскал с собой в лихих странствиях чистой, не смея пачкать, решившись на то совсем недавно, после чего она уже заполнялась полноценными буквами с пулеметной быстротой, и оказалась не уничтоженной, поскольку не подлежала уничтожению.
– Неуничтожимой, – шепнула ему на ухо Злата.
Тетрадку прочел Гриша Майзель, натурально, испросив разрешения. Проболтавшаяся Злата спрятала свои серые, отдававшие жемчужным блеском, под густую пепельную челку. Днем раньше Перепелов небрежно сунул ей: хочешь, почитай. Но разрешения на оповещение о тетрадке широких слоев населения не давал. Злата оповестила отца без спроса и теперь затаилась, уже знакомая с перепеловским внезапно проявлявшимся свойством прямохождения там, где обычный здравый смысл требовал хотя бы слегка пригнуться, чтобы не шарахнуться лбом об арку или, хуже того, о стену. Гриша, кустясь бровями и блестя лишенным волос шаром головы, а также подобным дочернему жемчугом серых глаз, предложил на основании части фрагментов сделать нечто цельное, сам брался за редактуру и выбор издания.
– Если хочешь, я позвоню главному Затейливой, мы приятельствуем.
Перепелов не хотел. Тетрадку – лег на диван, закурил, тогда он курил, не отягощенный проблемой мешков в подглазьях и прочими проявлениями возраста, – перечитал, встал, ввинтил окурок в пепельницу, взял лист бумаги, вставил в подаренный тестем югославский делюкс и перепечатал все как есть, ну может, пару-тройку предложений поправив. После этого обратился к Грише: дайте адрес. Тот дал.
– Я помогу, – поднялся со стула молодой Перепелов, адресуясь к Маше Майзель, которая принялась убирать со стола ненужное, чтобы принести кофе и десерт.
Проходя с посудой в руках мимо классика, приостановился:
– Вы классно пишете, а это овечье стадо, что размазывает пьяные сопли, и правда, надо гонять, а то и гнать, пока не поймут, что не в том дело, сколько раз они тебя упомянули, а в том, сколько раз упомянул их ты.
Он сделал ударение на они и ты и пошел, понес вслед за Машей тарелки в кухню.
Классик оценивающе посмотрел ему вслед.
– Где ты его нашла? – повернулся он к Злате, по-прежнему пуленепробиваемый, беря зубочистку из стаканчика.
– Это не я его нашла, – залилась смехом молодая Злата. – Это папа его нашел. На помойке.







