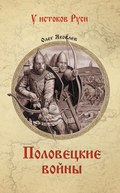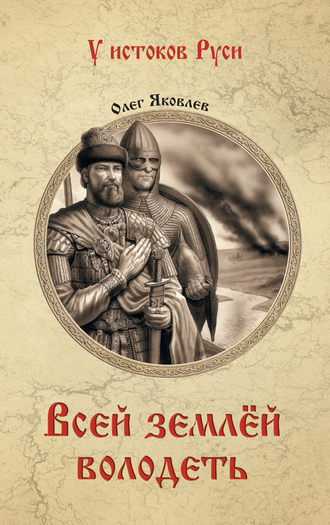
Олег Яковлев
Всей землёй володеть
Глава 9. Тайна рождения
Хрустя снегом под ногами, подбежал к Всеволоду юный боярин Ратибор. Шапка кунья лихо заломлена набекрень, мятелия суконная развевается за плечами, слегка припорошенная снегом, на начищенных до блеска чёрных сапожках сверкают металлом бодни.
– Княже! – заговорил Ратибор бодрым голосом, светясь белозубой улыбкой. – Там… Матушки твоей покойной челядинка старая… Хильда, кажись… Бают, зреть тя хощет… Проживает здесь, в Киеве, возле Лядских врат, у ропаты[139] латинской.
– Хильда! – Всеволод сощурил глаза, вспоминая. – Да, так её зовут… Зачем я ей понадобился? Ничего не говорила?
– Да я её и не видал вовсе. Шимон, варяг[140], дружинник, просил передать. – Ратибор, сразу смутившийся, с виноватым видом пожал плечами.
– Что же. Съездить к ней надо. Где её дом, я понял. Поедем вдвоём, Ратибор. Никому более ни слова не говори. Смею надеяться, ненадолго это. Ох уж эти мне матушкины свейки!
Князь неспешно взобрался в седло, тронул поводьями статного вороного скакуна с серебряной обрудью[141]. Плавной, важной поступью поскакал молодой, ретивый жеребец по заснеженным киевским улицам. Следом за Всеволодом держался Ратибор на своём гнедом коне. Они проехали мимо Десятинной церкви, миновали Софийские ворота, затем круто свернули влево и вскоре, поднявшись на бугор, оказались невдалеке от Лядских ворот.
Из трубы добротно сложенной избы, украшенной киноварной росписью, струился белый дым. Двор огорожен был частоколом из плотно пригнанных друг к другу толстых дубовых брёвен с заострёнными наверху концами.
«Будто за стеной крепостной эта самая Хильда живёт, – подумал Всеволод. – Что ж, покойная мать её любила, ей одной все тайны свои доверяла. Шесть лет минуло, как матушка преставилась».
Ратибору он велел остаться в сенях, сам же, переобувшись в домашние лапотки с загнутыми носками, поспешил во внутренний покой. Служанка, миловидная варяжка, поклонившись, зажгла свечу на столе и скрылась, тихонько затворив за собой дверь.
Старая Хильда тяжело дышала. Она покоилась на просторном ложе, накрытая беличьим одеялом.
«Подарок матери», – вспомнил Всеволод, опустившись по взмаху жилистой старушечьей руки на скамью рядом с постелью.
Седые волосы Хильды разметались по белой подушке. Она заговорила по-свейски, с присвистом, отрывисто, часто останавливаясь.
– Князь Хольти! Хочу открыть тебе тайну твоего рождения… Твоя мать, княгиня Ингигерда, хранила её долгие годы… Хотела сказать тебе перед кончиной… Не успела… Ты был тогда далеко, в Суздале…
– Какую ещё тайну?! Говори скорей! – прошептал Всеволод, внутренне содрогнувшись.
– Твой отец – не князь Ярослав… За год до твоего рожденья в Новый Город приехал король Норвегии Олав Харальдссон. Он потерял власть в своей стране… Раньше… Олав и твоя мать были женихом и невестой… За десять лет до этого… Должны были пожениться… Оба молодые, красивые… Но князь Ярослав… он предложил отцу Ингигерды, королю Швеции Шётконунгу, более выгодные условия…
– Эту историю я знаю! – недовольно перебил старуху Всеволод. – В вено[142] мой отец передал матери Ладогу, которой стали управлять ярл Рёгнвальд и его сыновья. Защищали они Новгород от нападений других варяжских и нурманских находников. Отец потому и прозван был Мудрым. Умел чужими силами оборонять свою землю. То же самое сделал он и на юге Руси. В Поросье, на пограничье со степью поселил служивых торков и берендеев[143].
– Вот… ты называешь князя Ярослава отцом… А между тем твой настоящий отец – Олав! От греха его с матерью твоей, княгиней Ингигердой – Ириной, ты родился, – провещала, неприятно шамкая беззубым ртом, старуха.
– Ты врёшь, обманываешь меня! – Всеволод внезапно вскипел. – Лежишь тут, клевещешь на мою покойную мать!
– Это правда, князь Хольти! Клянусь тебе!.. Мне ли не ведать! Я тайно устраивала встречи Олава с Ингигердой. Князь Ярослав, наверное, догадался об этом, но позднее. В тот год он ходил в поход на ясов[144], на Кавказ, и прибыл в Новый город только поздней осенью… Олав после Рождества… уехал, вернулся в Норвегию. Он попытался вернуть себе престол, но погиб в бою с датским конунгом[145]… Это случилось летом… Вести о его гибели пришли в Новый город уже в августе… Княгиня Ингигерда скорбела… А ты, князь Хольти! Ты родился в день памяти Феодора Стратилата, восьмого июня… Считается, что княгиня родила тебя раньше положенного времени… Но это не так… Помню, я принимала роды… Я держала тебя младенцем на руках… Тогда конунг Олав был ещё жив… Но он погиб два месяца спустя, так и не узнав никогда о тебе, князь Хольти… Он был смел, и в честь его твоя мать и дала тебе это имя – Хольти…
Хильда умолкла, переводя дыхание. Всеволод, вскочив, выглянул за дверь. Не подслушал ли кто его разговор? Пойдут слухи, и тогда… Бог весть. Такая молва может здорово навредить ему, владетелю Переяславля и Ростово-Суздальской земли.
Но в горницах было пусто. Ратибор в сенях негромко беседовал о чём-то с конюхом, служанка Хильды, по всей видимости, спустилась на нижнее жило[146].
«Ратибор не разумеет по-свейски, а больше некому тут слушать», – подумал Всеволод.
Немного успокоившись, он плотно притворил дверь и снова сел на скамью у изголовья Хильдиного ложа.
– Ты никому об этом не рассказывала? – спросил Всеволод, подозрительно глядя на морщинистое лицо старухи.
– Нет, я поклялась княгине Ингигерде, что никто, кроме тебя… ничего не узнает…
– А отец мой, князь Ярослав?
– Они часто ссорились… Твоя мать, князь Хольти, не была ему верной женой.
– То есть и среди моих братьев и сестёр тоже есть дети, рождённые не от князя Ярослава?
– Есть. Но я дала клятву…
– Довольно. Я понял тебя. Надеюсь, ты никому больше ничего не скажешь.
– Я умру этой ночью… Давно мучают боли внутри… Чую, отхожу к Господу… Дом свой завещаю тебе… Тебя твоя мать любила, очень любила… Потому что любила Олава… Князь Ярослав… он её сильно любил и многое ей прощал… Тебя он тоже любил как сына… Как своих сыновей… Даже сильнее… Он был умён… И ему нужны были наследники… Ты… ты станешь достойным сыном своих отца и матери… Теперь уходи…
Всеволод неслышно выскользнул из покоя. Становилось не по себе. Он размашисто положил крест и шёпотом пробормотал:
– Всё в Руце Божией. Прости нам, Господи, грехи наши! Не осуждай мать мою Ирину! Все бо[147] мы, человеци, из праха созданы и возлюбили земное!
Отчего-то вспомнилась ему давешняя встреча с Гертрудой.
Мрачно тупясь, поспешил Всеволод во двор.
– Поехали! – окликнул он Ратибора.
– И что, княже, сей Хильде от тя надоть было? – вопрошал по пути любопытный молодой боярин.
– Помирает она. Дом свой и двор мне по грамоте передаёт. Наследников у неё не осталось, – коротко отмолвил Всеволод.
На том разговор кончился. Сам себе князь Хольти поклялся, что открытую ему старой мамкой семейную тайну будет хранить до конца дней своих и ни едина душа о ней не проведает.
«Ради своего же и детей своих блага», – решил он, глядя, как над стольным городом сгущаются сумерки и в домах зажигаются огоньки свечей.
…Старая Хильда, как и предсказывала, скончалась той же ночью. Гроб с телом её поместили в ограде латинской ропаты. Всеволод вместе с воротившимся из похода на Литву Изяславом и Гертрудой побывали на её отпевании. На душе у молодого князя было смутно. Слушая латинскую скороговорку католического прелата, размышлял он о том, сколько же ещё тайн унесла с собой в могилу наперсница княгини Ингигерды. Вряд ли кто когда об этом узнает или догадается. И ещё подумалось о том, что множество тайн есть, в сущности, у каждого из живущих на Земле.
Глава 10. Подстяга
В глубоком почтении застыли на поросшем низенькой травкой княжьем дворе бояре и знатные дружинники. Воевода Иван вывел из стойла, держа за повод, вороного красавца-актаза[148]. Седло с серебристым узором, золочёное стремя, парчовый чепрак, дорогая обрудь красовались на гордом скакуне. Кто-то из дружины восхищённо ахнул.
Со всхода сошёл трёхлетний Владимир в кафтанчике зелёного цвета с золотой прошвой в три ряда от ворота до подола. Тонкий стан мальца перехватывал пояс с раздвоенными концами и пряжкой, изображающей греческую сказочную Медузу Горгону – чудовище со змеиными головами вместо волос. На поясе в обшитых бархатом ножнах висела короткая кривая сабелька. Голову мальчика покрывала войлочная шапчонка, ноги были в синих шароварах, расширенных у колен. Мягкие, тимовые[149] сапожки, как и кафтанчик, украшали золотые нити.
Явился с крестом в руках епископ Пётр в сопровождении архидиакона с кадилом, облачённый в праздничную парчовую фелонь[150]. Он прочёл краткую торжественную молитву и благословил оробевшего, мало что разумеющего ребёнка. Затем к мальчику подошёл княжеский брадобрей. Челядинец снял с головы Владимира шапочку. Осторожно, со тщанием брадобрей остриг юному княжичу первые в его жизни волосы, рыжеватые, слегка вьющиеся плавной волной. Княжич скривил губку, норовя расплакаться, но сдержался, стиснув зубы. Отец накануне сказал, что будущий воин не должен никому показывать свою слабость.
И всё-таки стало страшно, Владимир задёргал головой, озираясь по сторонам. Вот мать стоит у окна, такая каменно неприступная, чужая, холодная, смотрит с едва скрываемым пренебрежением на обряд пострига. Отец впереди толпы бояр глядит на княжича и чуть заметно кивает с одобрением. С отцом всегда проще и лучше, чем с матерью. Он то подарит какую-нибудь игрушку, то наставит мягким спокойным голосом. Не то что мать – та, если совершит Владимир какую шалость, тотчас сердится, гневается, хватается за розги. Единственный её подарок сыну – серебряный оберег, на котором с одной стороны нарисован святой архангел, а на другой – какая-то неведомая женщина со змеиными головами заместо рук и змеиными же хвостами заместо ног. С этим оберегом Владимир теперь не расстаётся, висит он у него на шее рядом с тельником.
Всеволод поднял сына на руки и торжественно усадил его на коня. В глазах у Владимира зарябило, всё возле него закружилось, запрыгало в каком-то неистовом вращении. Судорожно вцепившись руками в поводья, припав к гриве вороного актаза, он испуганно смотрел на бояр и дружинников, вдруг оказавшихся где-то внизу.
– Вот князь ваш, други! – возгласил Всеволод.
Он вместе с воеводой Иваном медленно провёл коня вокруг двора.
– Ничего, княжич, – лукаво подмигивая, успокаивал Владимира Иван.
Глядя на широкое, немного смешное лицо воеводы, княжич улыбнулся. Гридни бережно подхватили и опустили его на землю.
– Воин будешь, ратник, храбр удатный[151]! – погладил мальчика по голове воевода. – Научу тя всему, что сам умею. Дело нехитрое.
Так совершили над маленьким Всеволодовым сыном подстягу – обряд посвящения в воины. В тот день никто ещё не знал, как прогремит по белу свету имя Владимира Мономаха – полководца, писателя и умного устроителя своей земли. То будет в грядущем, а пока он был просто крохотным, пугливым мальцом, впервые оторванным от заботливых мамок и нянек и одолевшим первую в своей жизни преграду – преграду из собственного страха, боли, слабости. И только Всевышний ведал, сколько преград, тяжких, многотрудных, ждёт его впереди!
Глава 11. Волнения Владимира
Юный Владимир на редкость легко осваивал первые азы науки, как бы играючи давалась ему трудная для других грамота, и к семи годам княжич уже читал и писал по-русски и по-гречески, умел считать, складывать и вычитать двузначные числа. С особым тщанием взялся он за чтение книг древних хронистов. По нраву пришлись юному Владимиру и славянские летописи. Часто, уединясь с книгой в саду или на крутом берегу Трубежа, под сенью могучих вековых дубов, с восхищением узнавал он о деяниях Владимира Святославича, о походах Игоря, о Вещем Олеге. Ему хотелось, пусть хоть чуточку, но походить на них – сильных умом и крепостью мышц, великих, готовых на ратный подвиг.
Закрывая глаза, Владимир представлял себя неким храбром на коне с мечом в деснице, крушащим дикие полчища кочевников-печенегов. Дал бы только Бог сил стать таким же, как деды и прадеды.
Учитель, молодой Иаков-мних, не мог нахвалиться успехами питомца. Столь любознательных и способных учеников больше у него не было. Одно беспокоило тщедушного монашка: вырастет Владимир, станет думать, что в жизни всё так же просто, как и теперь, будет ему даваться. Тогда и бед натворить недолго. Ведь князь – первый человек на Руси, за всю землю он ответ держит перед людьми и Богом, потому должен он быть всегда рассудительным, мудрым, не рубить сплеча, но осмысливать, прежде чем вершить, деяния свои.
– Поболе о предках наших чти. Польза от летописей огромна. Чти и мысли, как бы ты сам поступил на их месте. И крепко запоминай читанное. Ибо в жизни многое из сего пригодится тебе, – наставлял монах юного княжича.
Воинскому делу обучал Владимира воевода Иван Жирославич. Крепкий, хорошо сложённый, широкий в плечах воевода, всегда прямой и открытый, пришёлся по душе Владимиру, и он старался как можно чаще радовать его своими успехами. Княжич научился метко стрелять из лука, владеть лёгкой, пока деревянной, сабелькой, управляться с конём, за что получал от воеводы скупую, но всегда приятную похвалу. В перерывах между занятиями Иван Жирославич любил рассказывать о своём бурном прошлом, о походах, в которых принимал участие, о битвах с косматыми печенегами и осаде руссами Константинополя.
Жизнь Владимира текла радостно и безмятежно до того самого дня, когда Иаков, будучи приглашён на трапезу вместе с княжеской семьёй, завёл с князем Всеволодом разговор о будущем мальчика.
– Мыслю я, княже, свезти бы сына твоего в Киев, – говорил Иаков. – Вельми способен он, в науках смыслён. Поглядит на стольный, со братьями, дядьями, с учёными людьми побаит. Всё польза будет. Да и книжников разноличных в Киеве не счесть, не то что у нас в Переяславле. И учителей бы ему подыскать, в премудростях исхитрённых. Куда уж мне его учить! Языков-то ведь никоих, окромя греческого, не ведаю. Послушай, светлый княже, совета моего. Сам ведь ты учёностью своею прославлен, пять языков разумеешь.
Всеволод задумался, опустил голову и долго молчал, уставившись в пол.
Княгиня Мария, холодно усмехнувшись, с презрением в голосе стала возражать Иакову:
– Да зачем они ему, языки? Грамоту постиг, чего ещё? Книг много прочитает, многое узнает. Не монах – князь будущий. Скажи им, Иоанн Жирославич.
Бывший тут же воевода Иван вытер ладонью широкие седые усы, громко прокашлялся и изрёк:
– Я, княгиня, скажу тако. Вот я много лет прожил, многое видал, в походы хаживал, служил князю Ярославу верой и правдой. А вот молви иноземной не обучен, о чём жалею вельми. Что мечом махать? Дело нехитрое. Каждый сможет, аще прилежание иметь будет. По моему разумению, всякому человеку учиться надоть, дабы всё сущее окрест[152] объяснить он мог. А то вот я: сколько ни думаю, многого не понимаю. Прошу об одном. Владимира полюбил я, яко сына родного. Пото, княже, пустил бы ты мя с им вместях[153] в Киев. Ведь и он вот ко мне привязался, а я уж пригляжу за им тамо.
– Глупость болтаешь, воевода! – Мария хмыкнула и недовольно поморщилась. – Что там, в Киеве, мёдом намазано?! Воин растёт, не святоша! Больно вы все его распустили, как я смотрю!
– Да нет же, прав воевода, – возразил Всеволод, стараясь хоть как-то сгладить резкость слов жены. – Пусть так и будет. Прав и ты, Иаков. Давно следовало бы княжича в Киев свозить. Нечего сиднем в тереме киснуть. Пускай на белый свет посмотрит. Вырастет – как княжить станет? Раньше проще было, но теперь иные времена, сынок, – обратился он к Владимиру. – Без грамоты никуда. Вот будешь ты с иноземными послами толковать или узнать задумаешь, что на свете творится. На толмача не надейся, он ведь и соврать, и ошибиться может. И помни: доверяй больше своим глазам, меньше – чужому слову. Съездишь вот с воеводой в Киев, поглядишь на стольный град, а там и учителей тебе найдём, и книги нужные раздобудем. Ты же, воевода, знай: за сына моего отныне ответ держишь! Присматривай за ним получше!
Сколь быстро и неожиданно меняется жизнь! Владимир широко раскрытыми очами удивлённо взирал то на отца, то на воеводу Ивана, то на Иакова. Иван Жирославич, уразумев, видно, что творится в душе мальчика, с ласковой улыбкой положил ему на плечо руку и тихо промолвил:
– Ничего, княжич.
И Владимир, ощутив у себя на плече тяжёлую и сильную длань воеводы, успокоился и застенчиво улыбнулся, доверчиво глядя на круглое усатое лицо вуя.
Глава 12. Первый поход
Летом, в самый разгар полевых работ, поскакали в Переяславль, загоняя коней, чёрные вестники беды.
По Суле, Орели, Удаю[154] вихрем пронеслись свирепые торки. Горели подожжённые ордой сёла и деревни, дымом окутывались пограничные городки, над полями кружило хищное вороньё, по дорогам рыскали вылезшие из своих нор степные волки. Крестьяне, собрав скудный скарб, толпами валили под защиту крепостей, бросая дома, житницы, гумна, а где-то уже далеко по пыльным шляхам брели иные, повязанные в длинные цепи арканами, подгоняемые нагайками.
Сакмагон Хомуня, весь в пыли, в разорванной кольчуге и покорёженном шеломе[155], спрыгнув с коня и бросив поводья челядинцу, бегом ринулся к крыльцу княжеских хором. Увидев на пороге сеней выскочившего ему навстречу обеспокоенного Всеволода, он резко остановился и, шатаясь от усталости, взволнованно выпалил:
– Княже! За Орелью сторóжи наши торков узрели! Сказывали: как вышли ко брегу Днепра, так видна стала рать большая. Воеводы бают, тыщи три вершников наберётся. Народ с полей в крепости бежит, прячется. К тебе спешил, нарвался на засаду у брода. Тамо сторóжа ихняя была. Едва не зарубили, треклятые!
Всеволод сдвинул тонкие брови.
– Опять зашевелились, поганые сыроядцы! – недовольно проворчал он. – Снова придётся мечом их поучить, супостатов. Вон как покойный отец печенегов бил под Киевом. Думаю я, Хомуня, выступать нам надо. Нечего за переяславской стеной сидеть. Соберу дружину, пойду в степь врагов встречать. На корню бы их сничтожить, не дать набрать силу.
Отпустив Хомуню и приказав воеводам собирать воинов, Всеволод прошёл в палату на верхнем жиле и сел на широкий конник[156]. Тяжкие мысли омрачили его высокое чело.
Издревле, из века в век налетают на славянские земли степные орды. Сперва были гунны, за ними следом обры[157] – от этих племён остались одни названия – потом хазары[158], угры, печенеги, теперь – торки. Нет в степях ничего постоянного, не переставая кипит там борьба, одни истребляют и вытесняют других. Но, какие бы племена и народы ни появлялись на ковыльных причерноморских равнинах, какие бы события ни вершились, жизнь там всегда оставалась одной и той же – не сеяли кочевники хлеб, не работали на ниве, а жили только грабежами, разбоем и кровавыми набегами. Вот в нынешнее лето снова явились они на Руси, правда, если верить словам Хомуни, не в такой великой силе, как случалось прежде. Поэтому стоит ли ему, Всеволоду, ждать, когда приспеет помощь от братьев? Да и помогут ли? Изяслав вон, собрался на голядов[159], на Литву – до степи ли ему сейчас? Эх, был бы он, Всеволод, князем в Киеве, устроил бы он тогда воронам в степи обильное пиршество! Голяды и Литва подождут, торки – куда опасней и страшней. Но прочь, прочь беспокойные мысли, не время предаваться мечте, возлелеянной в глубинах страждущей души! Надо спешить готовить переяславскую дружину. И выступать чем скорей, тем и лучше. Иначе торки могут откочевать далеко на юг, тогда ищи их там, на бескрайних просторах! Нагнать бы их сейчас, пока не поздно, перенять на пути, отобрать захваченный полон, иссечь саблями!
После недолгих размышлений князь вызвал к себе в покой воеводу Ивана вместе с Владимиром и, посадив мальца себе на колени, ласково спросил:
– Ну, сыне, пойдём на торков? Пора тебе поглядеть хотя бы на них. Ведь не раз и не два придётся тебе столкнуться с этими погаными ордами. Давай-ка, воевода, возьмём княжича с собой в поход.
Иван одобрительно кивнул головой:
– Ратнику будущему надоть с младых лет ворога воочию увидать. Пущай едет. Ты, княже, не бойся. Я уж за Владимиром тамо пригляжу.
Глаза мальчика светились радостью. Наконец-то он сможет проявить себя, показать всем свою доблесть и воинское умение. Как будут завидовать ему после сверстники, те, кто ещё не выходил на поганых, с каким жаром станут они внимать его рассказам!
Владимира обрядили в лёгкую кольчугу, а в руки дали короткую булатную сабельку – скорее для порядка, ибо какой же воин без оружия отправляется на сечу. Юный княжич лихо впрыгнул в седло.
Мать, обычно такая холодная и отчуждённая, вдруг выбежала из бабинца, заохала и принялась осыпать Всеволода упрёками.
– Куда берёшь дитя такое малое! Вдруг шальная стрела! Не пущу я тебя, Владимир!
На глазах княгини заблестели слёзы; не выдержав, она всхлипнула.
– Довольно тебе хныкать! – грубо отрезал Всеволод. – Ратник он будущий, а не рохля какой! – И уже мягче добавил, обняв жену: – Ну, полно тебе. Моли Господа, чтобы не случилось никакого зла с нашим сыном. Всё бо в Руце Его.
Мария, вытерев слёзы и высморкавшись, зло прошептала в ответ:
– Если сына мне не сбережёшь, ни за что не прощу тебя, князь!
Всеволод, ничего не ответив, хмуро отвернулся.
…Наскоро собранная дружина на рассвете выступила из Переяславля и двинулась левым берегом Днепра. Во все стороны рассыпались сторóжи, зорко следя за степью: не покажется ли где враг.
Воевода Иван наставлял Владимира:
– Проста наука воинская, но требует порядку. Вот, княжич, совет тебе: в походе будучи, не ленись, на воевод всецело не полагайся, боле сам гляди. И ни еде, ни питью излиха не предавайся. По ночам же сам проверяй сторóжи, дабы не спал страж никоторый и готовым к сече был. Вдруг ворог нощью напасть измыслит, внезапу?
…Останавливаясь на короткие привалы, рать шла под палящими лучами солнца полтора утомительных дня. Владимир, сильно уставший под тяжестью булатной кольчуги, весь в поту и пыли, с унынием смотрел вперёд. Скоро ли кончится эта тряска в седле, скоро ли повстречают они наконец торков? Но на ковыльных степных просторах царило безмолвие, только ветер бросал в лицо горячие, сухие струи.
К полудню второго дня пути переяславская дружина достигла Воиня – крепости у впадения в Днепр многоводной, широкой Сулы.
Воинь, большой сторожевой городок, обведённый дубовыми стенами на земляном валу и рвом, встретил юного Владимира оживлением и шумом. Жители окрестных сёл и деревень, услышав о нашествии торков, спешили убраться за надёжные стены детинца. Воиньский воевода, весь охрипший от крика, метался по двору крепости, размещая вновь прибывших, расставляя ратников на забороле, торопя гридней с выдачей оружия. Городок, обычно тихий, как сказал Владимиру Иван, наполнился многоголосым гулом, звоном мечей и доспехов. Всюду видны были приготовления к обороне. В одном месте чинили повреждённую стену, в другом – подновляли городню[160], в третьем – на скорую руку сооружали стрельницу. В огромных чанах кипятилась смола.
…Въехав в Воинь, Всеволод тотчас выслал за Сулу сторóжу во главе с Хомуней, но не прошло и часа, как сторóжа воротилась и Хомуня взволнованным голосом доложил:
– Узрели поганых. Идут степью к Суле. Верно, не ждут нас. Неторопко идут.
Всеволод бегом сорвался с крыльца хором воиньского воеводы и, взмыв на услужливо подведённого гриднем свежего поводного скакуна, крикнул расположившимся на дворе дружинникам:
– Ворог близко, други! Собирайтесь, поскачем немедля!
Подъехав к воеводе Ивану, князь взял его за облитый железом локоть и с мольбой попросил:
– Поберегись сам и княжича далеко не отпускай. Рано ему ещё… кровь проливать.
…Владимир жадно всматривался вдаль. Вот у окоёма, из-за курганов вдруг показались всадники на быстроногих низкорослых конях, в калантырях и сверкающих на солнце аварских шеломах. Раздались оглушительный свист, улюлюканье и гортанный протяжный вой – позже Владимир узнает, что этот боевой клич степняков называется «сурен».
– То они бодрятся, – объяснил воевода Иван. – Приметили нас, супостаты!
Кочевники сходу бросились переплывать реку, в воздухе сверкали их острые, тонкие клинки. Передние уже вылезли из воды и с визгом и воем понеслись на руссов, когда Всеволод обнажил свой меч и прямой рукой дал знак к битве. Тотчас с дружным кликом переяславцы галопом рванулись наперерез врагу.
В воздухе запела сталь, и степь огласилась скрежетом, руганью, ржанием обезумевших коней. Владимиру стало страшно, он испуганно воззрился на воеводу. Окружённый кольцом гридней, юный княжич лишь краем глаза мог видеть сражающихся. Где-то совсем близко от него пронёсся, яростно вопя, толстый страшный торчин с искажённым злобой лицом, скуластый, тёмный. Холодок ужаса пробежал по спине Владимира. Но как же так можно – бояться врага? Нет, нельзя подавать виду, что он боится. Владимир с отчаянным ожесточением стиснул кулаки и старался хладнокровно, даже надменно, держаться в седле. Дрожь в теле как-то мало-помалу прошла, лишь бешено колотилось в груди сердце.
Княжич снова взглянул на воеводу. Иван, наверное, тоже волновался. Покусывая длинные седые усы, он с заметным нетерпением следил за ходом битвы. Как хотелось сейчас Ивану взмахнуть богатырским мечом и врубиться в ряды врагов! Но разве мог он ослушаться княжеского повеления? После долгого молчания воевода наконец обронил:
– Наши гонят.
Владимир слышал, как стихают впереди свист и вой свирепой орды и как растекается по ковыльной равнине радостный, победный клич руссов. Оттолкнув гридня, он продвинулся немного вперёд и увидел, что остатки торков стремительно бегут за реку, а переяславцы гонятся за ними и рубят, рубят беспощадно мечами, подсекая тем самым корни грядущих набегов.
…Ратники возвращались усталые, но довольные. Всю ночь у костров, разведённых на берегу Сулы, не смолкали разговоры о битве. То и дело слышалось:
– А здорово мы им врезали!
– Топерича не сунутся, сыроядцы поганые!
– А Ратша-то, Ратша как их сёк, супостатов!
Князь Всеволод, отыскав Владимира среди шумной толпы отроков и гридней, спросил:
– Ну, сыне, страшно тебе было?
– Страшно, отче. – Владимир в смущении зарделся и опустил голову.
Всеволод рассмеялся и потрепал его по жёстким рыжеватым волосам.
– Молодец, что не врёшь. И мне страшно было, и любому человеку страшно. Только страх этот надо учиться одолевать. Иначе какой ты воин? Главное, пойми: не ты ворога, а ворог тебя должен бояться. Думаешь, почему они свистят, визжат и воют так громко? Да потому что боятся. Страхом своим других хотят испугать. Когда же бьёшься, не думай ни о чём, кроме того, что Бог не попустит погибели твоей в лютой сече. И знай ещё: мы, руссы, всё равно этих степняков победим, мы сильнее, крепче духом, ибо за землю свою бьёмся, за своё, кровью и пóтом добытое, а они, вороги, чужое пришли жечь и грабить. Запомни.
И юный Владимир запомнил слова отца. Никогда уже более не будет овладевать им на поле брани дрожь, не слабой рукой станет держать он меч, и при одном лишь упоминании о Владимире Мономахе трепет будет охватывать половецких ханов, бесстрашных отчаянных воителей, и невестимо сколько больших дел предстоит свершить ему – воину, правителю, полководцу.