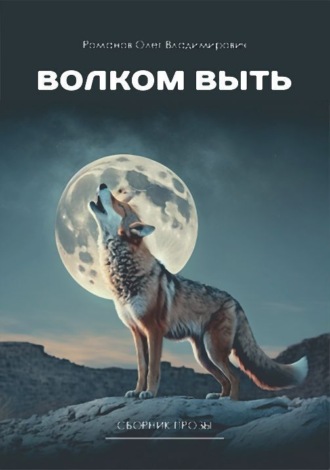
Олег Романов
Волком выть
© Романов О. В., 2023
© Знание-М, 2023
Биография
(Вступительная статья)

Романов Олег Владимирович
(23.07.1963)
Поэт, прозаик, публицист.
Член рязанского отделения Союза российских литераторов (2010).
Родился в д. Шемякино Касимовского района Рязанской области. После окончания Первинской восьмилетней школы учился в Касимовском индустриальном техникуме, который окончил в 1982 году. Работал в колхозе «Россия», служил в Советской Армии. Позднее трудился водителем самосвала в Касимовском ПОАТ в филиале на Касимовском карьере, командиром отделения ВОХР и СБ в ОАО «Волговзрывпром» (Нижний Новгород, Касимовский филиал), контролёром КПП «Втормет». С марта 2021 года – горняк (грохотовщик горного цеха «А» АО «Касимовнеруд»).
Писать стихи начал в школьные годы – сохранилась тетрадь со стихами, написанными в 1972 году. Первая публикация в печати (заметка о наставнике) относится к 1989 году в касимовской районной газете «Мещерская новь». В 1990 году вступил в Клуб творческой интеллигенции «Литературные субботы». Работал в газете «Мещерская новь» штатным корреспондентом. Здесь же было опубликовано первое стихотворение «Яблоки». Позднее оно вошло в поэтический сборник «Касимовские колокольчики» (1995).
Олег Владимирович публиковался в коллективных поэтических сборниках («Окские зарницы», «Свеча на ветру» и др.). Его стихи неоднократно публиковались в воронежских литературных журналах и альманахах («Острова», «Любовь и музыка» и др.), а также в периодических изданиях других городов. Стихи звучали по «Радио России», была публикация в «Книжном обозрении».
В 1997 году вышла первая книга стихов автора – «Параллели». Публиковались и работы критического характера, отзывы о книгах, в том числе за рубежом. В 2002 году вышел в свет сборник «Палиндромы и стихи», содержащий около 60 произведений, в том числе детские стихи.
В 2003 году вышла в свет детская книжка-раскраска «Радуга» (со стихами). Самый маленький рассказ Олега Романова (с завязкой, кульминацией, развязкой) – «Первое сентября»: «Собрали ребёнка в школу. Купили ранец! Сколиоз…» (10.08.2017).
Всего автор выпустил 12 книг: 7 поэтических и 5 прозаических. Публицистика переведена на японский язык в академическом японском издательстве «Кобуси Сёбо» (Токио, 1998). Хайку переведены на японский и английский языки. Известен в 239 странах мира как арт-поэт и арт-художник. Снялся в 11 фильмах (с 1995 года).
Вместо предисловия
Имя Олега Романова хорошо знают его многочисленные (я бы добавил – многотысячные, а может быть, и многомиллионные) читатели, ибо сейчас ВЕК ИНТЕРНЕТА. И слава Богу, что есть такая возможность показать своё творчество тем, кто истинно любит нашу изящную русскую словесность. А Олег преданно и с полной отдачей своих творческих сил служит ей. Это подтверждают его публикации в периодике, а также многие книги, которые он выпустил. И не только поэтические книжки, но и художественно-графические произведения, принёсшие ему широкую известность и как художнику. В разных жанрах творит наш автор, и везде у него получается. Да, конечно, бывают и шершавые, не до конца отшлифованные строчки. А у кого их нет?! И всё это исходит от творческого преизбытка, захлёстывают эмоции, постоянная возбудимость, желание удивить новизной формы и содержанием.
Это относится и к детским стихам, в которых Олег Романов раскрывается перед нами в разносторонней манере поэтического письма: в традиционной и новаторской манере. Какую цель в данном случае он преследует? Я полагаю, что он прежде всего стремится показать окружающий нас мир постоянно обновляющимся только в лучшую сторону, в сторону духовного возрождения. И это вполне объяснимо: дети ведь гораздо зорче и обострённей воспринимают и явления природы, и все процессы, в ней происходящие, как говорится, «здесь и сейчас».
Олег – человек многосторонне одарённый, а стало быть, уникальный во всех отношениях. Его творчество, в том числе и детское, совершенно самобытное. Когда прочтёшь его стихи (в том числе и детские), то они не выветриваются из головы, их «хошь не хошь», а непременно вспоминаешь как нечто необычное, даже экзотическое.
Я не раз говорил ему: «Олежек, сохраняй свой внутренний мир таким вот оригинальным и не сходи на обочину с выбранной тобой дороги. У многих, ныне пишущих стихи, такой самобытинки нет. А у тебя она есть! Да, есть!»[1]
Геннадий МОРОЗОВ
(10.09.1941‒27.03.2022)
член Союза писателей СССР и России,
почётный гражданин города Касимов
…И умирает, вырождается мать сыра земля, что хорошо показано в рассказе Олега Романова (Касимовский район) «Волком выть». Этот рассказ перекликается со знаменитым романом-предупреждением Чингиза Айтматова «Плаха» – в нём также повествуется об истреблении волков в регионе, но написан он в жанре, близком к сказке, существующей на грани с устным народным творчеством, и задействует характерное для этого жанра пограничье между видимым и невидимым миром.[2]
Людмила ВЯЗМИТИНОВА
(25.08.1950, Москва – 14.07.2021, Москва),
российский литературный критик,
«критик в шапочке», как её называли в СМИ
Веет теплом от небольшой сказки касимовского автора Олега Владимировича Романова об одиноком и смелом мышонке, который смог обрести и дом, и семейный уют. Правда, вначале это маленький и далеко не бесстрашный зверёк, но он сумел преодолеть свои страхи.
Может, это и не о мышонке сказка, а о человеке? Даже имеющие сентиментальный, а иногда и слащавый оттенок слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (зёрнышко, коробочка, бережок, песенка, кашка) здесь уместны. Конечно автору следовало бы пояснить такое слово, как «рэкетир» (вымогатель; тот, кто занимается вымогательством, угрожая насилием): «Бабка Груша кашу для Васьки-рэкетира стряпала – пушистого серого сибирского кота богатых объёмов так за агрессивность вредители огородов прозвали». Ребёнок, читающий сказку, этого слова точно не поймёт. Или заменить его понятным русским словом, чтобы ориентировать маленького читателя на уровне родной речи. Но думается, у этого автора – настоящая русская душа.[3]
Любовь РЫЖКОВА-ГРИШИНА,
кандидат педагогических наук (2009)
Очень впечатлена была «Горбушкой» Олега Романова. Мастерски раскрыта тема противопоставления государства и его подданных. Увы, реальность нашей жизни в том, что власть живёт на другой планете (как уже показано в известном всем фильме «Кин-дза-дза»).[4]
Настя КАПУСТИНА (г. Владивосток)
Автор выражает благодарность поэту, профессиональному журналисту, редактору от бога Юлии БЕРЕЗОВСКОЙ (Москва) за предпечатную подготовку почти всех текстов этой книги в печать. Юлия Ивановна получила 2-ю премию за стих «Дочь Пушкина скончалась под забором…» по итогам VIII конкурса поэзии, проведённого к 200-летию А. С. Пушкина Международным обществом Пушкинистов (Нью-Йорк, США) в 1999 г., и получила роскошный фотоальбом о Нью-Йорке. В 90-е годы трудилась в отделе писем еженедельника «Книжное обозрение».
Все персонажи данной книги выдуманы автором. Реальное сходство хотя и возможно, но бессмысленно.
Данную книгу посвящаю моим любимым – жене Марине и дочке Виталине за корректуру и моральную поддержку многолетнего труда.
За постоянную финансовую поддержку автор благодарит В. В. Камшилова.
Чутьё деда Митяя
Повесть
«Хитрый Митрий!»
(народное)
1
В кустарях на островке посреди стоялого болота видали йети. С этим известием, словно метеор, влетела в избу-пятистенку бабка Фима – крепенькая ещё старушка лет шестидесяти пяти – и принялась расталкивать на лежанке русской печи деда Митяя, от которого противно разило винным перегаром.
– Дедусь! Дедусь! Подъём! Гляди, солнце уж встаёть, пятухи давно пропели. Проспался, небось!
– А-а, пшла к чёрту, старая, – брыкнув ногой, проворчал дедка и перевернулся на другую бочину. Сладко зевнув, потянулся и вновь захрапел.
Последнюю новость бабушка Фима услышала у водоразборной колонки, куда завернула после того, как выпроводила за калитку в стадо козичек. Сгурбились здесь не так по воду, как по свежим новостям соскучившиеся за ночь деревенские бабы. Сбились в кружок. Ещё кой в чём одетые и встрёпанные, как воробьихи после сна, выскочившие из-за застрехи. И чиликали, и чиликали, опершись на коромысла с «касимовской» росписью. Молодуха – соседка Фимки – стрекотала, как швейная машинка:
– Вчарася Авдотья Ромашкина на болото за мохом ходила. Да на-ка, выкуси-ка, – не дал Болотный ей щипнуть ни кудельки. Смоталась и посудину посеяла. Едва не рехнулась. Еле мужик отходил нашатырём за ночь-то. Опамятовавшись, она и поведала.
Чудовище, всё шептала, увидела – рослое. Орёт – недурниной. Рыжеволосое, в волосиках от маковки до пяток! Глазюки, что рубли с Лениным, блистают! Боле со страха, сказывала, ничегошеньки не разглядела. Медвежья болезнь у её. Вот кака новость, бабоньки.
Бабка Фимка, кончив шпионить, бочком-бочком да бегма до дому – откель только прыть-то взялась у старой. «А деда-то разбудить – орудье надоть подкатывать к избе. Талбарахнет раз – тогда, может, шевельнётся», – думала она на ходу, перебирая и восьмеря кривыми своими старческими ногами, поспешая к дому.
– Дед, а дед! Да проснись же ты, нехристь, новость-то какая. Алё, гараж! – закричала прямо с порога. Взобралась на приступки голбца и, отдёрнув тряпку на капроновой нитке в сторону и придерживая её концы, схватилась двумя пальцами уже за рубаху муженька. И добилась своего. Тряпьё зашевелилось.
– Дед, дед… Чего ещё надоть? – прошлёпали губы, еле видимые в рыжих с проседью усах под красно-сизым, мясистым носом и такой же бороде дедка со спутанными волосами.
Выглянувший из-за белёсой ситцевой занавески в мелкий синий горошек дед Дмитрий (так его звали по паспорту) очухался не сразу. Но всё же нехотя свесил с печи свои чумазые ноги. С них хоть картину пиши! С трещинами на мозолистых, заскорузлых пятках и поеденных грибком гнутых пальцах, с давно не стриженными ногтями, вросшими в мясо. Обе конечности – одна короче, другая длиннее – имели свои неповторимые узоры. Притом торчали они из стёганок, в какие пожилой мужчина был одет, несмотря на октябрь. Они, ножищи с крепким запахом, свесившись с заваленной тряпьём лежанки прямо над печурками, едва не упёрлись в придавленную временем носопырку трясшейся от страха старушенции в вытертой плюшке-одёжке. Её, с глазастым рисунком на опрятном платочке, повязанном по-хохляцки, концами и узлом на сморщенный лоб, в стоптанных чёботах и тёмной юбке, мятой как жмых, дед сразу признал! Да и как не признать свою кровиночку – жинку, Фимушку, моргавшую своими карими, козиными глазами. Та даже конец длинной занавеси невольно выпустила из тощеньких отсочавших пальцев и отшатнулась от ножного запашка. Не торопясь, старик не рукавом рубахи, а сморщенными пудовыми кулаками протёр слипшиеся от беспробудного сна свои бирюзовые, бездонные, а не пустые, как у его второй половины, глаза. Слегка впалые от старости, они сразу заблестели.
– Ну что раскудахталась, старая. Отдохнуть путём не дашь.
– Не брюзжи, пропойца. Допредж послухай, что табе скажу. Авдоша-то Ромашкина чуть коньки не отбросила ночью-то.
…И бабка Фима вкратце пересказала деду всё, что слышала на Пальце (площадь так звать) у колонки по «сарафанному радио».
2
Дед, Дмитрий Тимофеевич Шишкарёв, в своём Богом забытом краю, в утерявшемся среди болот сельце Медведьево, с пелёнок прослыл ушлым охотником. Причём в двух смыслах. Так, одним чутьём отыскивал и свою убоину в лесу, и четвертную бутыль самогона, которую бабка Фима не чаяла уже, куда и сховать от волчьего чутья деда и такого же аппетита на спиртное. Почитай вся тяжкая, суетная жизнь Митяя пролетела вблизи нескончаемого соснового бора, коли выкинуть те годы, которые вспламенела чертовка-война. Пенсия – крохи. Шабашку всё время приходилось надыбливать. Даже на колхозном собрании раз судили, как тунеядца – не брали в колхоз. Не жили, а выживали они с бабкой. Не отказывался старик и от халявной стопки водочки.
Дед участливо выслушал свою взбалмошную вторую половинку и призадумался. Достал из кармана прожжённых в нескольких местах стёганых штанов, с которыми не расставался в самую жестокую жару (деревенели икры ног), расшитый разноцветными стекляшками кисетик со злейшим табаком-самосадом, но одумался и бросил его на стол. А из грудного кармана вылинявшей штапельной сорочки с огромной заплатой на самом видном месте – само-изготовленную трубку, любовно сработанную в редкие часы досуга из крепкой древесины яблони.
Нудили голову думы. Бережно охватили они всю седую голову семидесятипятилетнего, крепкого ещё в корне старца. Скамья в переднем углу под образами, на какую он перебрался с печи, и та жалобно попискивала под грузным телом хозяина, похожего на медведя своей неуклюжестью и неповоротливостью. Это было только его место. На него не мог сесть никто за столом. Здесь на низком подоконнике маленького слепого окошка – только протяни руку – лежал спичечный коробок, трубка, пачки папирос «Север», «Прибой» и десятикопеечных сигарет «Памир», из которых дед добывал крепкий табак для трубки. А на краешке стола, покрытого облезлой, когда-то цветастой, на бумажной основе клеёнкой, лежала облизанная дедом после каждой трапезы деревянная, с обгрызенным краем, никогда не расписываемая под хохлому и вырезанная им самим из липы ложка, теперь облезшая, щерблёная и обкусанная, но любимая. Постучав трубкой о стол, старикан по привычке высыпал пепел в пепельницу, сделанную из консервной банки с засаленной красивой этикеткой, с проглядывающейся надписью «Завтрак туриста». Затем он потянулся за огоньком. Нечаянно плечом задел керосиновую лампу, низко висевшую на длинном проволочном крючке. Зачален он был за вбитое в потолочную балку кольцо, предназначенное когда-то для зыбки. Смрадный осветительный прибор со стеклянным пузырём, который старый сам чистил вчера подобранной на улице газетой, загремел грязной своей скособоченной шляпой. Пара чирков о коробочку – спички имеют болезнь ломаться, – и тугодум затянулся вкусненьким дымком, отбивавшим тяжёлый дух керосина. Самосад всё же надоедал ему, и, когда надо было думать, дедка предпочитал купленное: «дай в зубы, чтобы дымок пошёл».
…В области, в их районе, уже давно искали йети. Следы вроде бы медвежьи, но без когтей – давно в бору встречаются, с начала лета. Дед хоть и неграмотный, но понимал, что лишняя копейка, которой щедро делились столичные гости за свежие новости, как говорится, карман не тянет. Ещё раз втянув табачок в себя, да так, что дым из ушей пошёл и до пяток весь организм прожёг, дедуля позвал супругу, гремевшую ухватом по чугунам в печи за тесовой загородкой. Экономя керосин в керосинке, русскую печку старики топили даже летом для готовки, но больше для выпечки круглых пеклёванных хлебов из чёрной (оржаной) муки. Да по большим праздникам татарских «туяшей» или русских «курников» – пирожков.
– Мать, подь сюды. Я обмозговал, Фимушка, и попробую вычислить эту нечисть. Мабуть, разбогатеем на старости-то лет. Нам ня надо много, зато нашей внуке подмогнём, хоть малость самую. У ей семь ртов и все по лавкам сидять. Сама-то осьмая будет и мужик – царство ему небесное – помёр, не выдюжил, лихоманка его задери. Давай, снеси пошамать. За едой взвесим, что к чему.
– Несу, несу – лишь вымолвила хозяйка, незаметно смахивая сажным передником каплюшки пота с лобашки и неожидан-ку слезинку с морщавой щеки, и стала отскорлупливать сваренное яйцо…
3
На центральной улице села Медведьево спряталась в зелени их убогая, скособоченная, наполовину ушедшая фундаментом в землю, крытая гнилой старой соломой изба, где старики доживали свой век. Живёт в райцентре Касимов песчинка их – внука. И правнуков у неё – мал мала меньше. Родных больше нет и не было. Внучка – подкидыш. Её на порог избёнки подбросили побиравшиеся погорельцы с большими мешками за плечами. Соседи видели, и чем могут, тем помогают старикам. Хозяйство их невелико: кобель Букет да пара дойных длинношёрстых козичек. «Сталинские коровы» – звали таких в ту войну. Это козы Фиму спасли, пока дед у неё в боях участвовал. Да и в шестидесятых, когда Хрущёв в стране правил и всю еду отбирали и даже сено косить не давали там, где удобно, приходилось воровским методом жать траву серпом по ночам и тайно сушить.
Летом косят вместе. Бабушка ещё вычёсывает козочек пластмассовым гребешком, отбирает колючую тёмную писику (жёсткий волос), попадавшую с чёрных подпалин коз, и прядёт козий пух, смешивая его с толстой белой ниткой для прочности. Донце, сидение, в которое вставляется доска и к которой привязывается верёвочкой кудель, – загляденье, резное! Как и ножная расписная самопряха, которую дед починил сам. Лишь новые деревянные катушки выточил для прялки в городе на токарном станке знакомый мужик-охотник из куска морёного дуба, о который как-то заколодило сеть деда – «пятидесятку» – на Оке, и солидный кус дубка за сучки был вытащен на берег вместе с рыбой путём продолжительных усилий. Первоначально в лодке бакенщика, а потом от избушки зажигателя фарватерных фонарей на лошадке был доставлен обрубок к дому, где был распилен и произведён в дело самим Митяем и умельцем-станочником. Долгими зимними вечерами и бабушка без дела не сидит. При колеблющемся семилинейном моргунке вяжет красивые пуховые платки и косынки и продаёт их за хорошие деньги туристам на пристани, где причаливают «Ракеты» из Горького и пассажирские пароходы. И даже плавмагазин бывает – плывучка, как зовут её в народе, белое судёнышко, – всего много, но не даёт (не речникам). Спросом этот товар пользуется всегда. Мяско козляток, убоина деда да картоха с огорода – вот и вся их снедь. Бабкиной пенсии – десяти рублей в месяц – хватает на хлеб и на нехитрую одежонку…
Фимушка едва смогла отодвинуть слабеющей уже от непосильного колхозного труда рукой за палочки тяжёлую стальную задвижку у чела печи и цапельником цапнула из загнетки обливной сковородник с ещё тёплой драченой – обычной едой стариков по утрам. Деду плеснула в гранёный «елатомский» стакан самогонки для просветления головы. Снесла для себя к столу и глиняную крынку топлёного козьего молока с толстой пенкой, томлённого в печи. Дед такое жирное едево не переваривал, предпочитал хлёбово: варёный и мятый лорх, рассыпчатый, с искорками, звёздочками. Деревенские владелицы коров охотно покупали у бабки козье молоко за копейки, чтобы добавлять в подойники – конные вёдра – когда несли их на сдачу в молокозавод. Жирность в посудинах становилась выше. И платили сдатчицам больше. Ещё брали целебное молочко малым детям – грудничкам. Доставалось парное лакомство и старичкам.
– Дед, молочка-то снести? Давиться, чай, будешь.
Дед будто застыл, лишь иногда поскрипывал лавкой о половицы, сжимая не беззубым ртом чадившую трубку да ещё пуская, как паровоз, клубы душистого, едкого для глаз дыма через замоховевшие ноздри дряблого носища к жёлтому потолку, усиженному мухами.
– Гляди сама, Фима, мне всё равно, – наконец-то вымолвил он, тяжело вздохнув.
А вспомнился ему фронтовой эпизодик, вернее, два. Когда они с расчётом украли у немцев свою «сорокапятку», взятую уже как трофей, и как он заблудившуюся в лесу двуколку с кухней чутьём охотничьим отыскал. Вот радости было! Командир к медали «За Отвагу» представил. Да не судьба было получить – в штрафники угодил…
Во время завтрака деда осенило. Да так, что он чуть было не подавился застрявшей в дыхательном горле картошкой.
– Пойду-ка я и сварганю лабаз у того болота. Спрячусь. Вдруг счастье улыбнётся…
До заката солнышка опытный охотник готовил свой нехитрый скарб. Нашёл и направил о брусок заржавевший было без дела, удобно лежавший в привычных руках топорик. Он лежал без дела с тех пор, как изготовил дед себе добротную дубовую домовину, заваленную в углу сарая хламом от старухиных глаз. Опробовал жало о большой палец. С одного раза разрубил «сотельный» – как он звал – гвоздь на берёзовом стулоке. Недаром при царе клеймён топор! Жаль, старший правнук в каникулы – не усмотрел дед – ударил при колке сучклявого берёзового комля по обуху обухом колуна, и дедов сучкоруб лопнул в обухе. Но нашёлся умелец – заварил кузнечной сваркой, крепким швом нужный в хозяйстве инструмент. Двуручную пилу по дубу и другим твёрдым породам дерева, с мелким, нарубленным вручную зубом, за неимением своей пилки, занял у соседей. Для удобства приколотил гвоздиками сверху отполированных ладонями ручек держаков ровную орешину. Теперь свободно можно было пилить одному. Вытащил из патронташа восемь патронов шестнадцатого калибра и поменял мелкую дробь, которую сам из кусочков свинца катал чугунной сковородкой на пороге дома – плите ожелезнённого цемента, осколка барского фундамента – на свинцовые прутки, нарубленные здесь же, на пеньке. Добавил и пороха в блестящие гильзы. Проверил вычищенное до блеска старинное безотказное, не раз выручавшее в трудную минуту двуствольное ружьё – «тулку»-двухкурковку. Бабка Фима собрала в рюкзак нехитрую снедь.
– Господи… – помолилась вслед религиозная бабулька и, обернувшись на «киётки» с образами в красном углу, откуда из-за вышитых петухами занавесок едва проглядывались кругастые лики святых, набожно ещё раз перекрестилась. Вечерили молча, и на столе так и осталась непочатая бутыль самогона, которую бабка Фима по такому случаю самолично достала из загашника, который дедуся ещё не расчухал.
4
…С первыми петухами дед, словно помолодев, лётма сиганул с печи, забыв о ранении разрывной пристрелочной пулей с немецкого станкового пулемёта «МГ-42» с цейсовской оптикой. Спал не раздеваясь. Сетовал: не греет кровь старческие косточки. Особенно на той искалеченной ноге, где прямо в кости жил осколок «дум-дум». Из дырочки постоянно сочилась жёлтая жидкость, хорошо хоть горе-лекаря ногу спасли. От боли губами к стакану он прикладывался всё чаще. Хотя в парнях капли в рот не брал – и сохранил отменное здоровье. Увидев на столешнице нетронутую бутылку с мутной жидкостью, Митя невольно проглотил слюну. И даже оглянулся на спавшую супругу Евфимушку, которая со свистом похрапывала на деревянной самодельной, прямо игрушечной кроватке, добротно сработанной умелыми руками дедка. Но снова его что-то удержало от необдуманного шага. Он сдержался и не стал оказывать себе медвежью услугу.
Бабку будить не решился. Ещё ненароком сглазит – «прокудакает», и всё дело насмарку. Спустил с цепи, прибитой к просторной конуре, верного пса, звучно в тишине щёлкнув пружинкой мусатика с вертушком. И, поправив кольцо на ошейнике собаки, подпоясался патронташем на ремне. Взвалил рюкзак на старческие худые плечи. Пристроил на правое плечо ружьишко. А свободные руки занял топором и пилой. Впрочем, первый скоро засунул рукоятью спереди за ремень – по-рязански. От этого Рязань косопузой и зовут!
Хлопоча, чуть было не забыл главного – курева. Хорошо самосад рядом на печи сушится. Но через силу отказался и от табака. Нащупал свежую, ещё не высушенную путём лещину в хлопчатобумажном бабкином чулке в рубчик и ссыпал пару горстей орехов в карман – от нервов – вместо «курятины»! Нашарил здесь же выпавшую ночью из кармана заветную трубку и заботливо сунул в печурку. Прикинул: «Таперича вроде бы всё». Присел по старинному обычаю на минутку перед дальней дорогой на рассохшийся табурет, который стоял у порога. Поднял приставленную к голбцу – припечи, со ступеньками для всхода на печь, – предательски взвизгнувшую музыкой пилу. Но глухой супруге хоть «пожар!» на ухо ори. Осторожно, чтобы не скрипнули половицы и давно не смазанные проржавелые от времени петли двери, выскользнул во двор.
– Айда, Букетик, пошли.
Попрощались с дедом лишь мелодично притворённая калитка с неправильно прибитой на счастье подковой (вверх ногами), чтобы сыпались деньги, да соседский петух, охранявший от ястреба свой выводок. Дед ещё раз оглянулся на избу. Как бы мысленно попрощавшись с убогим жильём и старухой, Митяй, крадясь, через проулок спешно завосьмерил – «руболь двадцать – руболь двадцать» – к видневшейся вдали опушке леса своей неторопливой, немного косолапой, прямо-таки медвежьей походкой, сминая траву вдоль тропы и оставляя характерные следы носками вовнутрь, а пятками врозь на пыли дорожки. Через заулок – это чтоб баба с пустым ведром не повстречалась. Со стороны старичок своим обличием: высоким ростом, курчавой бородой, чистого неба голубизны глазами, особенной поступью (прихрамывал «рубль двадцать») – сам напоминал снежного человека! Ему бы ещё волосы длиннее да скинуть нехитрую одежонку: мало ношенный «макинтош» (так он звал морской китель без погон с блестящими морскими пуговицами в якорях), стёганые штаны и лапти да кепи с пипочкой на макушке, а также поклажу – и можно идти сдаваться властям! Благо росточком-то вышел почти с медведя.
Здесь на воле всею своею прытью ерепенилось, не даваясь под власть осени, бабье лето. Толклась к теплу какая-то мошкара, тенёта летала от ветра. На деревьях бора видневшиеся издали зелёные листья кое-где начинали стойко багроветь или желтеть, выделяясь подпалинами и оспинками. Постепенно, не сразу жухли цветы и теряли расцветку и буйность травы. Сыпалась оземь последняя лещина, которую прятали в норки полёвки и в дупла белки. Оранжевели на солнце кисти ягод рябины, украшавшие молоденькие, нежные деревца. Ягоды калины ещё сильно горчили, а сизая ежевика, которую дед щипал двумя толстыми пальцами, сверху в пятнышках неопасного кожного рака, по пути встречалась всё чаще и чаще. Лишь мелкий валежник похрустывал под новыми красными – из шкуры молодого вяза – выходными дедовскими лаптями. Да прошлогодняя листва, истолчённая в труху, «топила» ступни деда в начавшейся лесной стёжке, путая путь. Но цепкие, совсем не старческие глаза старика разве на мякине, как воробья, проведёшь? Дед не по-старчески весьма памятлив и помнит даже, где ступнуть лаптем и не замочить онуч! Спугивая в застоявшиеся лужи тритончиков и лягух среди ряски и тины, с запахом старости, дед Митя наконец-то вышел к болоту, где в самой середине виднелся остров в кустарях. Не зря йети оценил здешнюю неописуемую красоту. Букет звонким лаем вспугнул гревшегося ужика. Собака ищет грибы. Путает лишь осиновые с мухоморами и зовёт деда лаем. «Переговариваться» с другими собаками лаем он смолоду не приучен. Присев на неживую уже берёзку, верно поваленную когда-то бурей, дед Митяй приставил к колену пилу, достал деревянный коробок с космическим кораблём в зелёном цвете на этикетке. Он кстати оказался в «макинтоше» с нюхательным табачком. Вдохнул остатки табачной пыли и несколько раз подряд громогласно чихнул. Наполеоновские планы снова внедрились в его протрезвевшую за два дня голову. Привстав с бурелома и без шума сняв с натруженного плеча ружьецо, затем надоевший рюкзак, искатель приключений, изрядно проголодавшийся за истекшие километры пути, решил наверстать упущенное и перекусить. Ломоть домашнего хлебца, душистого, с салом от пуза свиньи (так называемой «чивирёской»), купленного старухой в городе на рынке, пара картох в мундире и головка лука быстро утолили голод. С заботой о ночлеге к вечеру был сооружён «салаш» из соснового лапника и сухой осоки. Всё это Митрий нарубил штыком от австрийской винтовки «манлихер», принесённым с войны, наборную рукоять к которому подсказал сделать из стальной трубки с резьбой и разноцветного плексигласа местный зэк, вернувшийся из мест не столь отдаленных. Букет облюбовал себе место под шаткими нарами, сделанными дедом из тонких берёзовых жёрдочек, срубленных уже топором. Суеверный дед смастерил временное жилище вдали от троп, чтобы не пересечь следов снежного человека. Солнце село так быстро, что человек и четвероногий друг этого не заметили. Сладкий сон на сытый желудок мгновенно сморил дедушку.
5
Вполне естественно, что деду Антипу приснился он – йети! Вначале показалось старику, что он был немного обволошен на теле, а лицо было не страшненькое. Преодолев отвращение, дед раздвинул кусты, пригляделся лучше и присвистнул. Огромадный лоб, заросший рыжими длиннющими волосьми, с глазами, похожими на металлические, с Лениным, рубли, космастое тело с огромными ручищами ниже колен и зубы, клыкастые и острые, как его кинжал. И этакое страхоидолище шло, косолапя, как бы дразня – «рупь двадцать», – прямо на него, Митяя, рыча что-то нечленораздельное на своём непонятном, каком-то деревенском диалекте, словно у его бабки, родом из другого селения. Дед, от испугу чуть было не наложивший в штаны, медленно пятился к озеру и стрелял, палил по чудищу. Клочки шерсти летели в стороны от дыр, проделанных «жаканами» в могучем некогда теле, но оно всё равно как ни в чём не бывало приближалось. Казалось, никакое усилие не сможет хотя бы приостановить приближающуюся дедкину погибель. От испуга он проснулся. В углу шалаша по-волчьи выл Букет, высоко задрав свою голову. Холодные каплюшки пота выступили не только на лбу, но и по всему старческому телу. Дед Митя троекратно выругался.
– Свержится ведь, ядрён батон.
Намотав куски байкового одеяла, которые и носил вместо онуч, и подвязав концами бельевой верёвки надетые лапти, старик умылся ледяной болотной водой. Сон тут же смыло. Вбив в мягкую почву прибрежья две равные по росту берёзовые рогульки и перекинув через них подобранную перекладину, он достал прихваченный, как и штык, в последний момент из дома алюминиевый, с помятым боком котелок – тоже память о войне с фашистами. Вода в нём сперва окрасилась, словно застыдилась, а изъятая из болота оказалась чистой, как слезинка, и он напился. Вспомнилось вдруг деду, как ходил он в последний, двенадцатый бой под Кёнигсбергом, каждая из предыдущих атак пехотинца могла быть последней. Как едва не задохнулся, но вылез из окопа, засыпанного «тигром» вместе с расчётом «ПТРД», где он числился первым номером. Холодный пот – вот что напомнило дедушке фронт. Из госпиталя вернулся с правой ногой короче на два сантиметра левой, поэтому и косолапил, что кость срослась неправильно. Всё счастье у него – его Евфимушка (Фимка тогда). Если бы не она, давно бы сгинул старый пень. А то вот всё живёт, здоров как бык да ещё к рюмке прикладывается. Старое дерево скрипит от ветра, да не падает! Дед Митя наспех позавтракал чем Бог послал. Дело оставалось за лабазом над тропой снежного человека, которая отыскалась быстро. Ведь запах человека в засаде идёт к хищнику понизу, а вверху хищник его не ощущает, лишь не спи и не шевелись, увидев чудище.
Он быстро нашёл на опушке четыре ровные, без сучков, росшие вблизи друг друга осины и принялся за привычную работу. Пила легко лезла короткими зубьями в осиновое мясо. Смуглое лицо его, сморщенное временем на лбу и заросшее рыже-седой щетиной на впалых огненно-пламенных сегодня щеках, спутавшееся волосы в бороде лопатой, прожитое время в седой голове – всё засветлелось улыбкой. Дряблого (с виду, конечно) старика предстоящая охота превратила в сильного, мускулистого мужика средних лет. Ближе к вечерней зорьке четыре поперечины, настил и крыша лабаза из лапника, как на шалаше, на верху осин были готовы. Маскировать стены из хвороста – плёвое дело. Захваченные из дома гвозди-кованцы пригодились для изготовления длинной лестницы. Так называемая скворечня была готова. Осталось потерпеть в ожидании гостя…


