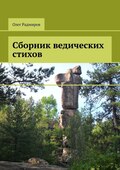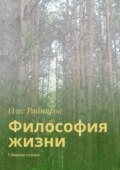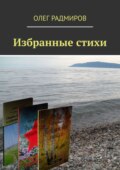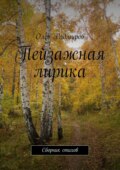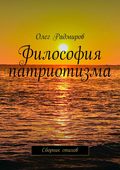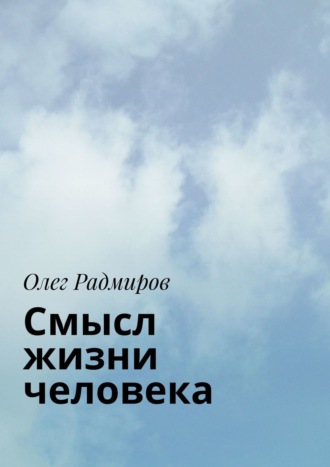
Олег Радмиров
Смысл жизни человека
Не может быть принято такое определение понятия знания и потому, что формой существования обобщенных результатов познавательной деятельности может быть книга или винчестер персонального компьютера, а ведь книга и винчестер – это лишь накопители памяти, а не носители знаний. Представляется, что в приведенном определении утерян еще один важный критерий знаний, а именно критерий субъективности знаний. Сама по себе книга или винчестер не может содержать в себе знаний, поскольку содержит лишь информацию, которая может стать знанием, когда ее прочитает тот или иной субъект познавательной деятельности, осознает ее и примет как истину. Как точно отметил автор Д. И. Дубровский в книге «Знание как предмет эпистемологии», знание не существует вне и помимо сознания, а сознание не существует вне и помимо субъективной реальности [5].
Те, кто изучал логику, знают, что под определением понимают только те суждения, которые прямо указывают понятию его место среди других, что в конечном итоге приводит к раскрытию содержания соответствующего понятия. Понятие считается правильно определенным, когда указано ближайшее родовое понятие и специальный видовой признак или критерий. Внешний признак, по которому можно определить правильность определения, состоит в возможности чистого обращения, то есть в том, что определение может быть поставлено на место определяемого понятия, и наоборот [6]. Более того, в п. 6.5.3. ГОСТ Р ИСО 704—2010 указывается, что определение должно описывать содержание понятия точно. Оно не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким. В противном случае определение неточно. Определение считается слишком широким, если характеристики, выбранные для описания понятия, допускают объекты, которые не должны быть частью объема. Определение считается слишком узким, если выбранные характеристики исключают объект, являющийся частью объема [7]. Наконец, по отношению к определению ставятся и чисто эстетические требования: желательно краткое и красивое.
Ранее приведенные примеры наглядно показывают, что неверно выбранное родовое понятие и специальные видовые критерии приводят к ошибочности определения понятия знаний, а значит, и к ошибкам и в правильном понимании сути этого понятия. Например, если говорить о последних приведенных ложных критериях, то знанием не может быть сама по себе форма существования обобщенных результатов познавательной деятельности или лишь субъективный образ реальной действительности. Чтобы дать наиболее точное определение понятию знания следует выявить подлинное и ближайшее родовое понятие и видовой признак или критерии исследуемого понятия.
На основании ранее изложенных рассуждений можно сделать вывод о том, что родовым понятием знаний является информация, а его критериями – субъективизм и вера субъекта в истинность полученной информации. Критерий веры и эволюционной трансформации знаний здесь как бы сливаются. С учетом выявленного родового понятия и критериев знанию можно дать следующее определение: знание есть информация, в истинность которой в определенной мере верит субъект познавательной деятельности. Если попытаться поставить данное определение на место определяемого понятия, то оно окажется тождесловием, что может свидетельствовать о том, что определение правильное. Несмотря на то, что приведенное определения понятия краткое, представляется, что оно содержит в себе необходимое и достаточное, а именно родовое понятие – информацию, критерии субъективизма и веры в истинность информации. Из данного определения также можно сделать вывод о том, что знание есть только та информация, которая воспринимается, осознается субъектом и сохраняется в его памяти, поскольку верить субъект может только в ту информацию, которую воспринимает, осознает и запоминает.
Приведенное определение может иметь разные вариации. Однако, при работе с определениями мы не должны забывать предельно критично относиться к любым авторитетам и источникам, сомневаться во всем, подходить к делу комплексно, всесторонне анализировать получаемую информацию и накопленные знания. Только так при поиске истины можно надеяться на положительный результат в условиях, когда вокруг нас накопилось столько не проверенной информации и откровенного вранья.
Несмотря на то, что в данной главе были описаны критерии знания, дано его определение и, стало быть, с понятием знаний больше не должно возникать затруднений, есть смысл сопоставить данное понятие с понятием опыта. Дело в том, что понятие опыта тесно связано с понятием знания и подчас эти понятия смешивают. Все это приводит к ошибкам в рассуждениях, что вряд ли может устраивать того, кто стремится во всем разобраться. В связи с наличием некоторой неразберихи в литературе по данному вопросу представляется необходимым посвятить следующую главу понятию опыта и наконец выявить то, что отличает знание от такого сложного понятия, как опыт.
Глава 4. Чем является опыт на самом деле
Наблюдения, совершенные в жизни, упорно подтверждают, что абсолютное большинство людей без тени сомнения убеждены в том, что они при выполнении каких-либо действий приобретают тот или иной опыт. И действительно, на уровне обывателя думать иначе может показаться несколько странным. В действительности мало кто догадывается о том, что указанная убежденность в данном вопросе основана на недостаточно хорошо проверенной информации. Дело в том, что как таковой опыт приобрести невозможно. Соглашаться с таким утверждением или нет – дело читателя, а изложенное призвано вынудить взглянуть на вопрос опыта несколько иначе.
Согласно распространенному представлению опыт есть нечто такое содержательное, что дает человеку преимущество над тем, у кого такого опыта нет. Причем данное преимущество связано с возможностью субъекта принимать более верные, взвешенные решения и осуществлять более успешную деятельность. Изложенное представление об опыте формируется у людей еще в детстве, и в дальнейшем оно только укрепляется. По данной причине многие не задумываются над верностью некоторых общепринятых утверждений. Например, утверждение о том, что человек передал свой опыт другому человеку, только на первый взгляд может показаться логичным. На самом деле человек не может передавать свой опыт другому человеку ни в каком объеме. Однако начнем все по порядку.
Если обратиться к научной литературе, то можно заметить, что как такового единого устоявшегося определения понятия опыта не существует, и уже только одно это должно настораживать человека, стремящегося раскрыть подлинный смысл рассматриваемого понятия. Представляется, что еще больше должны настораживать те случаи, когда в определения включают множество понятий, и особенно таких, в отношении которых нет единого четкого представления у научного сообщества. И здесь не нужно иметь научной степени, чтобы понять, что чрезмерные манипуляции с такими неустоявшимися понятиями едва ли могут привести к истине в условиях отсутствия четкого понимания тех понятий, которые включают в то или иное определение.
Как можно догадаться, в определение понятия опыта включают массу различных понятий, не имеющих в научной среде единого понимания. Именно это во многом и мешает найти истину в вопросе отличия опыта от других понятий. Очевидно, что без четкого понимания понятий, включаемых в определение понятия опыта, вывести верное определение едва ли возможно. Например, в определение понятия опыта зачастую включают понятие знаний, а данное понятие, как можно узнать, не отличается единством понимания в научном сообществе. В этой связи даже возникает не лишенное оснований подозрение о том, что кому-то такое единое понимание явно невыгодно, причем невыгодно в отношении не только понятия опыта, но и любых иных понятий, призванных обеспечить человеку возможность приобретения знаний, соответствующих реальной действительности. Здесь можно предполагать и о наличии желания отдельных деятелей науки спекулировать на теме неопределенности научной мысли по тем или иным вопросам, получая за свои работы научные степени или материальные выгоды в виде гонораров. Можно предполагать и о наличии элементарных просчетов или заблуждений. Какими бы ни были причины такого положения дел, у отдельных исполнителей лженаучных трудов есть свои спонсоры и заказчики, которые пользы человечеству явно не приносят.
Очевидно, что информация, не соответствующая реальной действительности, тормозит научную мысль и заставляет человечество топтаться на месте. Да простит читатель за такое отступление, но уже, как говорится, накипело, ведь в литературе скопилось столько непроверенной и подчас ложной информации, что дальше уже некуда. Вот попытался человек разобраться и узнать, что есть опыт с научной точки зрения, а его уже на этом пути ждет веер из десятка противоречивых определений, да еще и предложение рассмотреть это понятие как философскую категорию, включающую в себя в том числе знания, навыки, чувства и волю. Соответственно, после прочтения всех таких определений и массы трактовок в голове среднестатистического человека скорее возникнет не четкое понимание затронутого вопроса, а винегрет из подчас устаревших определений и стойкое желание ни при каких обстоятельствах больше ничего не читать из научной литературы. Тем не менее, как бы ни было сложно разобраться в массе определений понятия опыта, выделить те, которые содержат в себе часть достоверной информации, и таким образом приблизиться к верному пониманию понятия опыта все же возможно.
Можно заметить, что очень часто в определение понятия опыта вкладывают понятие знаний, навыков и умений. Такие определения, как правило, сводятся к тому, что опыт есть единство знаний и навыков (умений), приобретенное в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий, в отличие от знания, достигнутого посредством умозрительного, абстрактного мышления. Если внимательно рассмотреть содержание данного определения, то можно прийти к выводу о том, что знание, навыки и умения входят в состав опыта. Однако как быть, если наш опыт не связан с навыками и умениями, а связан только со знаниями. Например, бывают случаи, когда из так называемого опыта общения с конкретным человеком мы узнаем, что с ним не стоит шутить. Мы приобретаем опыт общения с конкретным человеком, но где здесь навыки и умения, непонятно. Не хотим же мы сказать, что приобретаем из общения с данным, конкретным человеком новые навыки и умения? Если и можно допустить такое, то все это выглядит крайне неубедительно. Скорее можно предположить, что навыки и умения рождаются после многократной практики взаимодействия человека с самим собой и окружающей действительностью, чем от единичного факта взаимодействия. При такой логике и на примере ранее изложенного определения выходит, что в состав конкретного опыта может входить лишь знание. Однако в таком случае мы должны признать, что опыт есть знание, а это, согласитесь, не может устраивать, так как разница между этими понятиями определенно есть.
Чтобы наглядно убедиться в том, что знание и опыт не являются тождественными понятиями, можно привести пример с учащимися музыкальной школы. Например, для обучения игре на аккордеоне учащемуся такой школы требуется проучиться пять лет по соответствующей программе. Причем базовые знания для игры на инструменте даются, как правило, в самом начале пятилетки. Представим, что один ребенок обучается в музыкальной школе по классу аккордеон третий год, а другой – пятый. Соответственно, будет логично предположить, что опыта игры на аккордеоне у второго ребенка будет больше, чем у первого. Такой ребенок наверняка будет играть на инструменте гораздо увереннее и быстрее первого, хотя знания о технике игры на одном и том же инструменте у двух детей будут примерно одинаковые. Все это может свидетельствовать о том, что знания и опыт отличаются друг от друга и, как можно будет в дальнейшем узнать, имеют разные родовые понятия.
Для всестороннего рассмотрения понятия опыта не будет лишним упомянуть и о том, что в литературе понятие опыта рассматривают как в широком, так и в узком смысле. Причем в широком смысле под опытом понимают единство умений и знаний, что едва ли вызывает доверие, если исходить из того, что уже было ранее изложено в настоящей главе. В узком смысле под опытом вообще понимают чувственно-эмпирическое познание. Например, в философском энциклопедическом словаре под ред. Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, В. Г. Панова под опытом в узком смысле понимается основанное на практике чувственно-эмпирическое познание действительности [8]. Однако данное определение понятия опыта затруднительно принять, ведь под познанием часто понимают совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Несмотря на то что под опытом предложено понимать чувственно-эмпирическое познание, оно все же познание, то есть некий процесс, а опыт процессом не является, поскольку может быть в определенном виде уже сформирован у субъекта. Здесь можно привести пример с футболистом и шахматистом, который подтверждает этот вывод. Так, если указанные спортсмены перестают тренироваться, то их процесс познания в контексте опыта останавливается по этим видам спорта, но как таковой ранее наработанный профессиональный опыт эти спортсмены сохраняют.
С учетом того, что все ранее изложенные попытки формулирования определения понятия опыта не увенчались успехом, представляется необходимым окончательно определиться с тем, может ли это понятие все же включать знание, которое чаще других понятий используют для определения понятия опыта. В данном ключе будет уместным привести выдержки из Новой философской энциклопедии, подготовленной институтом философии Российской академии наук и Национальным общественно-научным фондом. Данная энциклопедия содержит сведения о том, что «все попытки выделить абсолютно непосредственное содержание знания в виде опыта не увенчались успехом» [9]. Как указывают авторы энциклопедии, «невозможно выделить совершенно непосредственное и абсолютно достоверное знание, отождествляемое с опытом, – понимается ли это знание в духе эмпиризма как элементарные чувственные единицы или в духе феноменологии как самоочевидные феномены».
Понятие опыта – это, пожалуй, первое понятие в данной работе, которое вызывает наибольшее количество противоречивых представлений в научной литературе. Стоит отметить и то, что некоторые авторы и вовсе отказываются давать опыту определение, признавая, что опыт включает в себя слишком много представлений и по этой причине не может иметь определения. Несмотря на всю сложность затронутого вопроса, дать верное определение понятию опыта все же возможно. В данном ключе стоит привести определение понятия опыта из словаря русского языка С. И. Ожегова, где опыт рассматривается как совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений [10]. В данном определении знания включены в состав опыта, что, как было рассмотрено ранее, недопустимо. Тем не менее данное определение примечательно тем, что кроме знаний затрагивает в совокупности усвоенные навыки и умения, которые с опытом связаны напрямую и без упоминания которых в определении понятия опыта, как представляется, необойтись.
Если вспомнить ранее приведенный пример с учениками музыкальной школы, то можно заметить, что у субъектов может быть относительно равный объем знаний, но их навыки и умения могут не совпадать. Тем не менее, как можно догадаться, как и понятие знаний, понятия навыков и умений не входят в состав опыта. Подтверждением этого может служить не лишенное оснований утверждение ряда психологов о том, что знания входят в психологическую структуру умений. Так, в учебнике психологии авторов К. К. Платонова и Г. Г. Голубева указывается, что в психологическую структуру умений входят не только навыки, но и знания, и творческое мышление [11, с. 143]. Если взять на веру такой вывод, то из этого следует, что без знаний умение невозможно. С учетом того, что знание не может входить в содержание опыта, логично предположить, что и умение не может, поскольку оно, по логике авторов К. К. Платонова и Г. Г. Голубева, должно следовать в паре со знанием, которого в содержании понятия опыта быть не может.
Как уже было изложено в настоящей главе, для того чтобы дать понятию наиболее верное определение, необходимо абсолютно точно быть уверенным в верности понимания тех понятий, которые будут применяться в определении рассматриваемого понятия. Соответственно, следует дать наиболее верное определение понятию навыка и умения. На данный счет в научной литературе дано множество определений понятия навыка. Так, зачастую под навыками понимается деятельность, сформированная путем повторения и доведения до автоматизма. Однако стоит отметить, что принимать на веру такие определения вряд ли стоит. Например, в примере с пианистом неясно, как может пианист обладать игрой, то есть деятельностью на музыкальном инструменте. Дело в том, что сама по себе игра на музыкальном инструменте не может кому-либо принадлежать, а вот обладать нечто таким, что позволяет выполнять действия успешным способом игры на музыкальном инструменте, возможно.
Некоторые авторы навык рассматривают как умение. Например, в том же ранее упомянутом словаре русского языка С. И. Ожегова под навыком понимается умение, выработанное упражнениями, привычкой. Однако умение есть самостоятельное понятие. Кроме того, смешение понятия умения с навыками лишает смысла существования само понятие умения. Поэтому приведенное определение понятия навыка выглядит по меньшей мере странно для такого солидного словаря, что не может не вызывать у внимательного человека подозрений к устоявшимся в литературе источникам. Умение – это скорее нечто такое, что порождает навык, но пока это только предварительный вывод, к которому следует еще подойти.
Представляется, что с учетом сложности затронутого понятия стоит еще глубже погрузиться в его суть, и нелишним будет выявить нечто общее в массе определений понятия навыка. Поэтому стоит обратить внимание на то, какие определения данному понятию дают наши официальные науки в специализированной литературе. Так, например, под навыком в Большом психологическом словаре под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко понимается доведенное до автоматизма путем многократных повторений действие. В части трудовых действий под навыком в данном словаре понимается приобретенное в результате обучения и повторения умение решать трудовую задачу, оперируя орудиями труда (ручной инструмент, органы управления) с заданной точностью и скоростью [12]. Согласно учебнику психологии под редакцией И. В. Дубровиной навыки – это уже не действия, как указано в ранее приведенном словаре, а способы поведения, возникающие в результате научения, закрепленные путем упражнений и повторения, которые осуществляются автоматически, без сознательной регуляции и контроля [13, с. 78].
Можно привести и еще одно определение понятия навыка, которое также дается в психологии. Так, согласно учебнику, подготовленному в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по учебному курсу «Общая психология», автора А. Г. Маклакова под навыками понимаются автоматизированные компоненты сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения [14]. То есть в данном учебнике под навыками понимаются не просто действия, как указано в Большом психологическом словаре под ред. Б. Г. Мещерякова, а некие странным образом не описанные в определении компоненты сознательной деятельности. Иное значение навыку дается в учебнике психологии Р. С. Немова, где навык рассматривается не как компонент сознательной деятельности, а как компонент умений, причем реализуемых на уровне бессознательного контроля. Согласно этому учебнику навыки есть полностью автоматизированные, инстинктоподобные компоненты умений, реализуемые на уровне бессознательного контроля [15].
Если касаться педагогики, то в словаре терминов по общей и социальной педагогике А. С. Вороника под навыками в части социологии следует понимать набор способов и приемов социального взаимодействия, которыми человек овладевает на протяжении жизненного пути и пользуется для жизни в обществе, устанавливает свое равновесие с другими. Любопытно, что под умением в данном источнике понимается промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-либо правиле и соответствующим правильному использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка [16]. Согласно краткому словарю педагогических понятий под навыком следует понимать умение, созданное упражнениями, привычкой, умения, доведенные до автоматизма [17]. В словаре по педагогике авторов Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджаспирова навыком признается действие, сформированное путем многократного повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля [18].
Даже беглое рассмотрение различных специализированных источников позволяет усомниться в надежности самого подхода, которым пользуются те или иные науки при определении понятия навыка. Все это может говорить о том, что в период формирования понятийного аппарата, под которым понимаются все те основополагающие определения, на которых в дальнейшем строится обоснование всего, в науке возник критический сбой. Похоже, что данный сбой преследует науку уже давно, и в настоящее время накопилось много неразберихи в определении тех или иных понятий. Но что делать, если ни одна наука не может однозначно и как-либо единообразно ответить на вопрос о том, что есть навык? Неужели нам придется мириться с таким положением дел, где нет никакой определенности, а значит, и уверенности даже в элементарных вопросах? Что-то подсказывает, что поступать так точно не стоит, а стоит обратиться к той науке, с которой и началось развитие научной мысли.
Если верить древнеримскому политическому деятелю, оратору и философу Цицерону Марку Туллию, то матерью всех наук является философия. Именно она, по мнению другого римского философа Сенеки Луция Аннея (младшего), есть нечто не побочное, а основное. И действительно, спорить с тем, что философия выполняет главенствующую роль среди других наук и изучает самые общие закономерности бытия, вряд ли приходится, учитывая огромное количество научных работ, подтверждающих данный вывод. Более того, представляется, что философия особенно нужна тогда, когда молчат другие науки и не могут дать необходимый ответ. Как точно было отмечено в древнеиндийском политическом и экономическом трактате «Артхашастра», философия всегда считается светильником для всех наук, средством для совершения всякого дела, опорою всех установлений [19, с. 17].
В современной науке философия, как и раньше, играет ключевую роль в поиске истины. Актуальны и поныне замечательные слова французского философа, астронома и исследователя древних текстов Пьера Гассенди, который отметил, что так как не может быть ничего более прекрасного, чем достижение истины, то, очевидно, стоит заниматься философией, которая и есть поиск истины. Если вернуться к непосредственной теме данной работы, то для ее целей особенно важную мысль в отношении философии выразил немецкий философ, психолог и педагог Иоганн Фридрих Гербарт. Он не без оснований отметил, что философия есть обработка понятий. И действительно, какой еще науке, как не философии, под силу обобщать все наработанное не только науками, но и самой практикой жизни. В этой связи стоит обратить внимание на раздел философии – логику, который исследует построение логически верных определений и, соответственно, наполняет понятия правильным содержанием. Логику также определяют как науку о формах и законах правильного мышления. С учетом запутанности понятийного аппарата в научной литературе и для целей определения понятия навыка логичным будет обратиться именно к логике.
В учебнике логики В. Г. Челпанова на примере определения понятия «прямоугольник» указывается, что для того, чтобы верно составить определение тому или иному понятию, следует выявить род такого понятия [20, с. 26]. Согласно философскому словарю логики, психологии, этики, эстетики и истории философии под ред. Э. Л. Радлова под определением следует понимать логическую операцию, служащую раскрытию его содержания, то есть указывающую его место среди других понятий. Как отмечено в данном словаре, понятие считается правильно определенным, когда указано ближайшее родовое понятие и специальный видовой признак [6, с. 187—188].
Несмотря на то что в ранее приведенных определениях понятия навыка родовое понятие было выявлено, выявлено оно было неверно. Это косвенно подтверждается уже одним только количеством приведенных в настоящей главе определений навыка, которые не имеют единого родового понятия, хотя иметь его они непременно должны. Если вспомнить, то родовым понятием навыка указывалось то действие, то умение, то способ поведения. В других определениях понятия навыка родовым понятием назывался автоматизированный компонент сознательной деятельности, компонент умений, набор способов и приемов социального взаимодействия. Забегая вперед, хочется отметить, что ни одно из упомянутых родовых понятий навыка, а значит и ранее упомянутые определения понятия навыка, не соответствует реальному положению дел. Между тем на основании неверно определенного содержания понятия навыка в литературе даются определения других понятий, что приводит к ошибкам уже при построении определений понятий другого рода. Такое положение дел вряд ли можно назвать радужным, но мы сталкиваемся с таким обстоятельством всегда, когда дело касается в том числе таких понятий, как навык, и тех понятий, которые с ним связаны. В такой ситуации, вообще, прослеживается даже некий научный либерализм, где любая точка зрения признается чем-то особенно ценным, и неважно, абсурдна она или нет, несет в себе она рациональное звено или представляет собой очередную демагогию. Вот только дело в том, что от таких зачастую необоснованных точек зрения засоряется информационный фон, где человеку очень сложно найти истину. А это, как представляется, явно не способствует познавательному процессу.
Несмотря на то что указанное положение дел усложняет задачу по поиску истины, приблизиться к ней возможно путем отсечения из ранее изложенных определений не соответствующих действительности родовых понятий. Как уже было отмечено, навык не может относиться к действию, поскольку навыку свойственно кому-либо принадлежать, а действие принадлежать никому не может, так как оно не объект или не то иное, что может принадлежать человеку, а скорее процесс взаимодействия субъекта с реальной действительностью. Кроме того, действие может быть прекращено, а навык прекратить нельзя. Ошибочным будет и вывод о том, что навык есть умение, поскольку умение – самостоятельное понятие и его отождествление с навыком делает бессмысленным само его существование. Такие родовые понятия навыка, как способ поведения, автоматизированный компонент сознательной деятельности и умений, набор способов и приемов социального взаимодействия, также не могут быть приняты, что подтверждается нижеприведенными выводами.
Чтобы иметь хотя бы примерные ориентиры, с которыми в дальнейшем можно двигаться по пути отсечения ложного, следует продолжить углубляться в суть рассматриваемых понятий и рассмотреть навык и умение с позиции этимологии, то есть раздела лингвистики, изучающего происхождение слов. Так, если обратиться к нескольким толковым словарям, то можно найти сведения о том, что слово «умение» непосредственно связано с такими словами и выражениями, как умею, умеешь, имеешь возможность сделать что-нибудь, в состоянии что-нибудь сделать. Приведенные сведения могут свидетельствовать о наличии у лица, обладающего умением, разума для возможности применения того или иного умения. Данные этимологического словаря Г. А. Крылова о том, что слово «уметь» является общеславянским словом, образованным от той же основы, что и «ум», только подтверждают данный вывод [21, с. 394].
Навык же, как справедливо было отмечено в некоторых ранее приведенных определениях этого понятия, есть нечто полностью автоматизированное путем многократно повторяемых действий и реализуемое на уровне бессознательной регуляции и контроля. Косвенно это подтверждается приводимыми в литературе синонимами слова «навык». Так, можно найти такие синонимы слова «навык» как привычка, сноровка, ловкость. В этой связи любопытно будет оценить значение слова «сноровка», которое также приводится в словарях. Например, сноровку определяют как ловкость в каком-либо деле, приобретенную привычкой, опытом; умение быстро и ловко справиться с каким-либо делом. В авторитетном этимологическом словаре русского языка М. Фасмера дословно указано, что слово «навык» происходит от слова «на+выкнуть» [22, с. 35]; учить. Причем в данном словаре отмечено, что приставка «на» имеет усилительное значение, которое можно продемонстрировать на примере таких слов, как «накрепко» или «наскоро». Слово же «выкнуть» в словаре также указывается как «привыкнуть». Поэтому с учетом изложенного навык можно определить как усиленное привыкание, которое, в отличие от привычки, формируется благодаря волевому усилию человека, сознательно и целенаправленно. Тем не менее, как можно будет окончательно убедиться в дальнейшем, процесс применения уже полностью сформированного навыка носит скорее несознательный характер, то есть без полноценного участия нашего сознания. Лишь когда возникают ошибки и человек их замечает, навык может быть улучшен, и для этого человек полноценно задействует сознание для корректировки навыка.
Так, например, при игре на музыкальном инструменте музыкант воспроизводит мелодию путем быстрого нажатия клавиш и не задумывается, в какой последовательности нужно нажимать те или иные клавиши. В процессе игры все происходит как бы автоматически, на уровне бессознательного контроля, в результате ранее отложенного в глубины психики соответствующего поведения, ранее сформированного многократными целенаправленными и однотипными действиями. Главное, пианисту только дать себе сознательную команду начать игру. После принятия такого решения сознательный контроль процесса игры выключается. На смену ему включается другой процесс, соответствующий навык начинает применяться уже без участия сознательного контроля по отработанному ранее шаблону, то есть по воспроизведению ранее многократно проигранной мелодии. Однако стоит музыканту сбиться, например по причине плохо проведенных репетиций, как происходит возврат процесса игры из области бессознательного в область сознательного контроля. В этот момент музыкант начинает анализировать свою игру, те клавиши, которые он нажимал, и интервалы, которые ему необходимо было соблюсти.