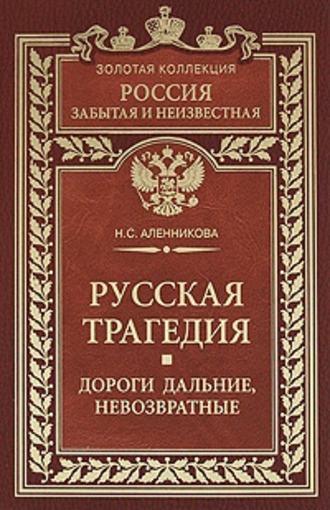
Нина Сергеевна Аленникова
Русская трагедия. Дороги дальние, невозвратные
Предисловие
Уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу воспоминаний Нины Сергеевны Алейниковой, волею судеб оказавшейся в 1920 г. в эмиграции с мужем, морским офицером Всеволодом Павловичем Доном, и двумя малышами – Ольгой и Ростиславом.
Впервые текст книги был напечатан в Париже, ставшем со временем, благодаря вере, трудам, нравственной силе и терпению этой семьи русских эмигрантов, родным домом для них.
Настоящее издание дополнено не публиковавшейся ранее главой «Поездка в Москву и Санкт-Петербург», а также послесловием, указателем имен и комментариями непосредственного участника событий – сына автора, Ростислава Всеволодовича Дона, ставшего заметным французским дипломатом и отметившего 2-го декабря 2009 г. свое 90-летие.
В помощь читателю книга снабжена также постраничными примечаниями редактора и его послесловием.
Первая часть
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Это было давно… В нашем старом Петербурге… Отец[1] отправился навестить знакомую больную в одну из больниц. Там неожиданно он встретил отца Иоанна Кронштадтского[2], у которого попросил благословения. Отец Иоанн Кронштадтский его не благословил, но сказал: «Ты будешь благословен в твоем потомстве»…
Вот этому потомству, моим внукам, я посвящаю повесть всей моей жизни в России.
* * *
Детство мое прошло в черноземной богатой Малороссии, в знойных степях, где зреет золотистая пшеница, где темно-синее небо кажется нависшим над землей, а ночью оно усеяно бесчисленными звездами, особенно ярко горящими летом. Млечный Путь ясно пересекает небо, звездочки Большой Медведицы мигают сверкающими огоньками. Несмотря на неподвижный воздух, свежесть, идущая от густых деревьев, дает возможность дышать после дневного зноя.
В наших степях жара была очень велика. Крестьяне начинали полевые работы на рассвете; кончали в полдень, «полудничали», то есть завтракали, и заваливались спать тут же под возами. Более молодые играли в карты, пели или просто балагурили. Имение отца находилось в Херсонской губернии, неподалеку от города Елизаветграда, нынешнего Кировограда.
Я потеряла мать очень рано. Она умерла, когда мне едва исполнилось четыре года. Ее смерть была вызвана несчастным случаем.
Мы жили в деревне мирно, тихо, однообразно. Нас было двое детей, я и маленький братишка двух лет. Несчастье обрушилось на нас неожиданно и совершенно выбило всех из колеи. Мать была в положении; она ждала третьего ребенка. В этом состоянии у нее была привычка ходить ночью в кладовую чем-нибудь закусить. Кладовая была всегда переполнена всевозможными окороками, колбасами всех сортов, уж не говоря о солениях, варениях и т. д.
Конечно, в те давно прошедшие времена у нас не было электричества. Мать брала с собой свечу, тускло освещавшую большую кладовую. В одну из таких ночей, когда она отправилась за едой, кто-то из прислуги забыл закрыть люк, ведущий в погреб. Мать не заметила этого, оступилась и рухнула всей тяжестью вниз с отчаянным криком. Весь дом сбежался. Послали за доктором, в деревню за бабой-повитухой. Когда приехал врач, он не нашел никаких переломов, но очень обеспокоился, так как она находилась в ужасном состоянии страха и депрессии. Вскоре у нее началась бессонница; она таяла у всех на глазах; ничего не ела. Обнаружилась сахарная болезнь, как объяснил доктор – от происшедшего у нее аборта, особенно от падения, вызвавшего сильный испуг.
Вскоре произошло необъяснимое событие, как бы предсказывающее грядущие катастрофы.
Отец мой еще до женитьбы служил в Белорусском гусарском полку. Выйдя в отставку, он занялся своим имением, захватив с собой, как тогда часто делалось, своего денщика, ставшего с тех пор его лакеем. Звали его Антон. Он был безмерно предан отцу и мог бы считаться идеальным слугой, если бы не склонность к водке, на которую, впрочем, отец, ценивший его, смотрел сквозь пальцы.
Мать окончила Киевскую музыкальную школу. Она была отличной музыкантшей и часто проводила за роялем долгие часы не только днем, но и поздно ночью.
Однажды Антон, помогая утром одеваться отцу, сказал ему, что «барыня ночью играла до первых петухов». Отец рассмеялся. «С пьяных глаз тебе показалось; опять хватил лишнюю рюмку. Барыня вчера легла в десять часов и всю ночь спала». Однако Антон настаивал и уверял, что он слышал звуки того «грустного, что барыня часто играют».
Вечером, как всегда, легли рано. Водворилась тишина, прерываемая только лаем собак или колотушкой сторожа, проходившего мимо окон дома. Отцу не спалось. Тоскливые мысли проносились в его голове. Он ворочался с боку на бок, и вдруг за полночь он услышал звуки похоронного марша Шопена, а рядом глубоким сном, не шевелясь, спала мать.
Он встал, тихо оделся и вышел в коридор. Там стоял Антон, он подошел к отцу. «Слышите, ваше высокородие, опять играют», – шепотом произнес он. Отец велел ему взять фонарь, и они отправились в зал, откуда доносились звуки. Когда они вошли, звуки, замирая, умолкли. Осмотрев рояль и ничего не найдя, они вернулись. Отец строго приказал Антону не обмолвиться никому о ночной музыке, особенно матери.
На другой день приехала погостить к сестре тетя Люба. Она также была очень музыкальна, и они обе часто играли в четыре руки. Комната для гостей находилась около зала. Отец велел Антону не ложиться и ждать. Если снова послышатся зловещие звуки, они оба войдут к тете Любе и скажут ей, в чем дело.
Днем они обе играли в четыре руки. Мать даже оживилась при появлении сестры и была на редкость веселая, а вечером повторилось то же. Одетый отец с Антоном постучали к тете Любе, которая с удивлением спросила: «Неужели сестра снова встала, чтобы ночью играть?» Ей пришлось объяснить необычное явление. Она очень испугалась, но все-таки отправилась с ними в темный зал, где так же замерли звуки при их появлении. Снова осмотрели рояль и заперли его на ключ. Потом долго обсуждали необыкновенное явление. Несмотря на просьбу сестры еще погостить, тетя Люба на другой же день уехала, сославшись на нездоровье. Еще одну, последнюю, ночь звучал похоронный марш. Нервы у всех были напряжены. На этот раз проснулась няня и невольно приняла участие во всеобщем переполохе.
Атмосфера таинственности и страха нависла над нашим домом. Через некоторое время, после последней ночной игры, мой маленький брат заболел воспалением легких. Спасти его докторам не удалось. Он умер, оставив после себя печать глубокой скорби. Старая няня, вынянчившая в свое время мать, горько оплакивала своего питомца, всячески стараясь не показать своего горя матери. Она часто говорила, что ночная музыка принесла несчастье.
Свалившийся этот удар еще больше подействовал на мать. Она все быстрее худела и сделалась почти прозрачной.
Весной приехала из Елизаветграда бабушка, мать отца, жившая в городе, но на лето приезжавшая всегда в свое имение гостить у сына. Увидев мать, она сразу загрустила, но всячески старалась подбодрить сына; она уговаривала его не отчаиваться. Сейчас же по приезде она потребовала, чтобы позвали священника и отслужили молебен о здравии болящей. Она при этом устроила так, чтобы этот день был праздничным. Она заказала повару отличный обед, а прислуге велела нарвать побольше цветов и украсить стол на террасе. Молодой священник, веселый и добродушный, отслужил молебен. Он покропил святой водой во всех комнатах. После этого, приложившись к кресту, мы все отправились обедать. Обед прошел оживленно, настроение поднялось, все пили за здоровье матери. Но это настроение длилось недолго. Матери становилось все хуже. Отец возил ее к известным профессорам, но она только уставала от этих путешествий.
В одно жаркое солнечное утро отец, войдя в столовую, не увидел, как обычно, бабушки. На его вопрос прислуга ответила: «Барыня еще не выходили из комнаты». Было почти девять часов утра, небывалое явление, так как она всегда вставала рано и до восьми часов выпивала свой кофе. Отец постучал в ее комнату, но ответа не последовало. Он вышел во двор, и ему удалось влезть в оставленное открытым окно. Бабушка сидела в кресле неподвижно. Постеленная с вечера кровать была не тронута, видимо, бабушка скончалась вечером, не успев лечь. Бедный отец, горячо привязанный к своей матери, был потрясен этой неожиданной смертью. Няня, успевшая рассказать всей прислуге о ночной музыке, уверяла, что эта музыка была предупреждением несчастий.
Между тем один из лечивших мать профессоров посоветовал отцу отвезти ее в Париж к знаменитому специалисту по диабету, что отец исполнил. В этом трудном путешествии приняла участие и я со своей няней. Знаменитый профессор после первого серьезного осмотра заявил, что положение ее безнадежно и лучше всего ее отвезти обратно на родину, куда она стремилась. Не задерживаясь, мы пустились в обратный путь в Россию и направились прямо к дедушке. Через четыре дня после нашего возвращения мать скончалась, окруженная своей семьей. Я не понимала, что такое смерть, но отлично помню печальные похороны, а отпечаток вечной разлуки надолго оставался в моей душе. Отец, обезумевший от горя, весь под впечатлением таинственных предзнаменований, оставил меня у дедушки, а сам отправился в Индию.
Перед возвращением из Франции отец нанял мне гувернантку, желая, чтобы я получила европейское воспитание. Бедная няня страшно косилась на это новое иностранное существо, как вихрь ворвавшееся в нашу жизнь. Мадам Жюли оказалась весьма приятной женщиной, полной добродушия, с веселым характером. Она быстро приспособилась к нашему русскому быту, полюбила его и вполне сошлась с моими прародителями, особенно потому, что мой дедушка-поляк был католиком. Сначала я ее дичилась и была ближе к няне, но вскоре полюбила ее. Семья деда была большая, но из его одиннадцати детей большая часть погибла от несчастных случаев. Еще до смерти матери утонул Александр тринадцати лет. Во время моего пребывания погибла девочка четырнадцати лет. Она отправилась в сильную жару в степь без шляпы. Когда она вернулась, бледная и утомленная, то повалилась на диван, жалуясь на сильную головную боль. Пока послали за доктором, который находился в 13 верстах, Леонора скончалась.
Имение Любомировка[3] принадлежало богатому помещику Шебеко[4]. Дедушка, получивший агрономическое образование и обладавший немалым опытом, управлял этим имением. Сам Шебеко никогда в поместье не показывался. Большой старинный двухэтажный дом был предоставлен дедушке и его семье, которая там себя чувствовала как дома. Мы, ребята, росли на полной свободе. По утрам мадам Жюли заставляла нас изучать французский язык. Эти уроки давались нам, младшим: мне и трем моим дядям, из них самый младший, Коля, был моих лет. Мальчики тащили меня с собой на прогулки. Глубокая река протекала мимо имения, и ее берега были скалисты. Я с ними бросалась со скал в реку, мы ныряли и, как маленькие зверюшки, стряхнув с себя воду, ложились на солнце. По вечерам на берег приводили для купания табун лошадей. Тогда нашим любимым занятием было бросаться с конями в воду, нырять с ними, обваливаться в песке и снова кидаться в реку. Я очень скоро научилась плавать, ездить верхом, правда, кое-как и без седла. Сначала бабушка противилась этому, но дедушка находил, что это здорово и что девочка должна быть такой же сильной, как мальчик, и бесстрашной.
Моя жизнь протекала весело и беззаботно. Дедушка и бабушка[5] оба меня баловали и любили. Они долго горевали о потере любимой старшей дочери и перенесли на меня свою нежность.
Отец писал очень редко, все откладывая свое возвращение. После двухлетнего отсутствия он выразил желание в письме к дедушке, чтобы я переехала с няней и гувернанткой в его имение. Туда же из Елизаветграда должна была переехать его двоюродная сестра, чтобы заняться моим воспитанием, особенно русским языком, в котором я очень хромала. Мы чаще всего говорили по-малороссийски, мешая с польским, а тут еще был французский язык, который мы усердно изучали благодаря стараниям мадам Жюли.
Письмо отца всех взволновало. Бабушка не хотела меня отпускать. Дедушка был не только огорчен, но и рассержен на отца и обвинял его в недоверии к ним. Но пойти наперекор они не решились, и вскоре меня переправили в Веселый Раздол, где жизнь шла своим чередом. Имение было в руках опытного управляющего. Прислуга была все та же. Антон состарился и все чаще напивался; в такие минуты он неминуемо вспоминал ночи с похоронным маршем, сожалел о прошлом и шумно вздыхал. Кухарка Евгения встретила нас со слезами. Она устроила парадный обед и привела из деревни свою девочку Дуню, чтобы играть со мной. Дуня воспитывалась у своей бабушки. Это была черноглазая, очень подвижная девочка, но совершенный дичок. Приехавшая из города тетя Саша не очень одобрила мою дружбу с Дуней. Я же сразу всем сердцем привязалась к Дуне, больше не могла без нее обходиться. Александра Ильинична (тетя Саша) начала усердно заниматься перевоспитанием Дуни, стараясь ей внушить, что нельзя сморкаться пальцами, зевать во весь рот и т. д.
Хотя Дуня была года на четыре старше меня, мы с ней очень подружились. Мы вместе бегали купаться, ездили верхом, присутствовали при уборке хлеба, занимались животными – словом, не разлучались. Мадам Жюли продолжала по утрам заниматься со мной. Тетя Саша давала мне уроки русского языка, в котором я оказалась очень отсталой. Однако я быстро научилась читать и передавала свои познания Луне.
Как-то нас навестили дедушка с тетей Любой и мальчиками. Они привезли много меду и всяких сладостей. Я очень им обрадовалась.
Через несколько месяцев после нашего возвращения наконец вернулся и отец. О своем прибытии он нас известил телеграммой. Поэтому мы не успели как следует приготовиться к этому событию. Я сразу же почувствовала большую перемену в отце. Он сделался угрюмым и сердился из-за пустяков. От управляющего он потребовал подробные отчеты и остался всем недоволен. Тетю Сашу упрекнул в том, что я скверно выражаюсь по-русски, прибавив, что это, конечно, влияние Яницких, где все дети говорят на трех языках вперемежку. Мне было больно это слышать, тем более что он заявил, что больше меня к ним не пустит. Я почувствовала его несправедливую враждебность к ним, что меня очень огорчило. Настала зима, и отец надолго уехал в Петербург. Мы остались одни и облегченно вздохнули.
Зимы в наших степях суровые, выпадает масса снегу, налетают огромными стаями вороны, они скачут всюду по снежным равнинам, наполняя воздух карканьем. Проснешься, бывало, в восемь часов утра, а темно, как ночью. Оказывается, что снегом завалило все окна и двери и выйти невозможно. Тогда начинается суматоха. Дворники разгребают лопатами сугробы снега перед домом; строят за воротами снежную горку, обливают ее водой, и если грянет мороз, то на другой день можно кататься с горки на салазках. На совершенно замерзшем пруду можно кататься на коньках, но самое приятное – это поездки к соседям на санях. Печи в доме топились соломой. Мы с Дуней любовались, когда слуга запихивал вилами эту солому. Она трещала и разгоралась в печи, освещая всю комнату и коридор ярким светом. После утренних занятий мы выбегали на двор в теплых башлыках и в валенках. Бегали по снегу, гоняя ворон, срывая сосульки с дикого виноградника, обвивающего террасу. Эти длинные, тонкие льдинки мы ели как мороженое.
Бурной стихией неожиданно появлялась весна. Тогда потоками текли ручьи растаявшего снега. Воробьи чирикали громче и веселее.
Всюду появлялись брандуши. Это маленькие беленькие цветочки с крупным корнем вроде луковицы. Мы очень любили этот сладкий, сочный корень и ели его в большом количестве, выкапывая маленькими, острыми лопатками, приготовленными специально для нас кузнецом Евграфом. В галошах было неудобно бродить по лужам. Мы часто снимали их и чулки и бегали по холодным ручьям босые, но никогда не простужались. Нас всегда сопровождал сторожевой пес Мендель, огромный, лохматый, с рыжеватой шерстью.
Настоящая весна и ее прелесть начинались тогда, когда все деревья в огромном саду цвели различными цветами. Все благоухало, а от лип шел особенный пряный запах. Недавно прилетевшие ласточки, грачи и другие пернатые наполняли воздух разными звуками. А когда начинал заливаться соловей и слышались отрывочные, но четкие возгласы кукушки, то совсем становилось весело и отрадно на душе.
Весной обыкновенно отец возвращался из Петербурга, и тогда атмосфера сгущалась. С наступлением лета мы с Дуней отправлялись на берег пруда. Туда же прибегали другие ребятишки из деревни. Мы всей гурьбой наслаждались купанием, предварительно обвалявшись в песке.
Тетя Саша не очень одобряла мою близость с деревенскими детьми. Она как-то высказала это отцу. «Это все пустяки, – ответил он. – Пусть, наоборот, узнает ближе с детства свой народ, а насчет манер – на это пригодится институт, в который я скоро ее отдам». Услыхав это, я не на шутку перепугалась. Слово «институт» показалось мне каким-то жутким и чудовищным. Вечером я спросила тетю Сашу, что обозначает это слово. Она мне объяснила, что это дом, где живут и учатся другие девочки. С этого времени меня начали усиленно подготовлять к поступлению в институт. Отец нанял репетитора, мадам Жюли усердствовала с французским языком, которым я уже свободно владела. Я любила читать французские книги. Тогда особенным успехом пользовались книги графини Сегюр1.
В институт обыкновенно принимали в девять лет, с предварительным экзаменом. Так как мне было всего восемь лет, а отец во что бы то ни стало хотел меня туда определить, ему пришлось подать прошение на высочайшее имя2. Было решено, что я поступлю в Одесский институт, а тетя Саша переедет жить в этот город на зиму.
Ответ на прошение пришел удовлетворительный, при условии если я выдержу экзамен, который был назначен в конце мая. Этот экзамен я выдержала блестяще, особенно благодаря мадам Жюли. Мой французский язык поразил весь учительский персонал. Казенная, холодная обстановка института сильно повлияла на меня. Повеяло чем-то чужим. Сердце сжалось при мысли, что я скоро попаду в этот закрытый для всех незнакомый круг. Мне казалось просто невероятным, что я покину Веселый Раздол, лошадей, купание, моих друзей – деревенских ребят, милую Дуню, изобретательницу всяких шалостей и проказ. Отец остался очень доволен, что я выдержала экзамен, и купил мне роскошную куклу со всевозможными нарядами.
Когда мы вернулись из Одессы, он всем объявил, что осенью произойдет событие большой важности, то есть мое поступление в институт. Было условлено, что мадам Жюли переедет на зиму в Петербург, чтобы заниматься с детьми дяди Жоржа. Летом они все приедут на каникулы к нам. Полюбив всей душой мадам Жюли, я горевала при мысли об этой разлуке, но ведь расставаться надо было не только с ней, но со всей счастливой жизнью в деревне, в любимом Веселом Раздоле. Няня также горевала и ворчала на отца, находя его бездушным и несправедливым. Мадам Жюли тоже была подавлена предстоящей переменой, но мысль пожить в красивой столице все же привлекала ее. Отец часто ей рассказывал про дядю Жоржа, характер которого славился необычайной мягкостью и добротой.
Дядя Жорж, граф Зубов, был нашим родственником по жене, то есть его покойная жена была двоюродной сестрой моей матери. Они жили как родные сестры, обе учились в Киевском институте. Лето всегда проводили в имении Мани, так звали кузину. Они обе погибли от несчастных случаев, оставив вдовцами своих мужей. Маня, очень светская и много выезжавшая, не захотела иметь четвертого ребенка и погибла от произведенной над ней неудачной операции. Дядя Жорж, блестящий конногвардеец и в то же время композитор, окончивший консерваторию под руководством Римского-Корсакова, был безгранично привязан к своей жене. Потеря ее была для него страшным, непоправимым ударом. Старший сын его, Саша, красавец, был глухонемой. Произошло это оттого, что его трехлетним мальчиком уронила нянька, подбрасывая его на руках. Он ударился головой об пол, заболел менингитом, и хотя его удалось спасти, он остался глухонемым. Учился он в специальном пансионе, но раз в неделю приходил домой. Коля и Тамара были малыши моложе меня. Ими и должна была заняться мадам Жюли.
В знойное сухое лето у нас в Раздоле было много гостей. Семья Ламзиных из Елизаветграда, у них было пять дочерей, еще гостил некто Цингер с сыном из Варшавы. Немного позднее приехал дядя Жорж с детьми и гувернанткой-немкой, но он остался с нами всего десять дней и уехал в свой летний лагерь. Самовар с раннего утра шипел на столе большой террасы. Чай пили когда кто хотел. Отец вставал чуть свет и отправлялся на полевые работы на бегунах, вместе с управляющим. Завтракали обыкновенно в час с половиной. После обильной еды все заваливались спать. Ставни все закрывались. Мы, ребята, собирались в нашем маленьком флигеле, где было прохладно из-за близких деревьев, окружающих домик. Там мы играли в карты, домино и другие игры, а в четыре часа отправлялись всей гурьбой купаться на пруд, кататься на лодке и веселиться. По воскресеньям, когда не было полевых работ, устраивались пикники. Мы ехали в экипажах и на бегунах, а за нами плелась большая арба, набитая сеном, покрытым огромным брезентом, с прислугой и большим запасом всевозможной провизии. Обыкновенно мы отправлялись в единственный на всю окрестность березовый лесок. Там, на траве, под самой большой тенью, мы располагались на весь день. Иногда мы доезжали до огромного озера, принадлежавшего богатому помещику Бутковскому. На берегу этого озера было тоже прохладно, так как было много тенистых деревьев. Отец неизменно играл на гармонии, пел свои любимые песни, иногда декламировал, всегда одно и то же. Помню его любимое стихотворение «Утка», смысл которого был тот, что животные никогда не бросают на нянек своих детей. Выращивают и воспитывают их сами. Когда солнце начинало садиться, мы отправлялись в обратный путь. Степь при закате солнца напоминает море, особенно когда зрелые колосья хлебов переливаются различными красками. При малейшем ветерке все это море колосьев колышется, как покрасневшие волны. Веселый Раз дол, выраставший издали своими огромными осокорями, казался неожиданным оазисом в пустыне.
Кто никогда не жил в степях, не может знать прелести их. Наш огромный тенистый сад был полон фруктовых деревьев всех сортов.
Целыми днями тетя Саша и Марья Исидоровна Ламзина варили варенье в саду на примитивных жаровнях, сооруженных из кирпичей. В огромных медных тазах варились клубника, малина, сливы, вишни, кизил, шелковица, райские яблочки и груши. Нам бережно собирали пенку, которой мы лакомились во время чая.
Да, это было блаженное лето. Часто среди забав я вспоминала, что, когда оно кончится, я уеду в город в огромное серое здание. Там останусь одна среди чужих людей. Тогда сердце больно сжималось и душу обдавало холодом. Чуткая и добрая тетя Саша понимала мои переживания и часто мне говорила: «Не унывай. Каждый четверг и в воскресенье я буду к тебе приходить, а на Рождество возьму тебя к себе, тогда нагуляемся вместе». Отец, съездивший в Одессу по делам, снял тете Саше квартирку в центре города.
К нам часто приезжали соседи, особенно семья Рустанович3 и Бжежицкие. Старики Бжежицкие редко приезжали, зато часто были у нас их три дочери-красавицы: Ксения, Ольга и Елена, как и младший братишка Алеша, который учился в кадетском корпусе в Одессе. И поэтому было решено, что Ксения, старшая, поедет с нами в Одессу сопровождать брата. Тетя Саша заранее назначила день праздника перед нашим отъездом. Был приглашен молодой священник из соседнего села при станции Помощная, знакомый нам отец Александр, которого всегда звали на семейные события. Гости разъехались во все стороны, кто в Питер, кто в Елизаветград. Дядя Жорж явился накануне за детьми. Все взрослые расположились на террасе за большим столом. Для нас, детей, был устроен отдельный «музыкантский стол». Как мы веселились за этим столом! Нам не полагались спиртные напитки, но квасу было вдоволь. Подражая взрослым, мы чокались стаканами с квасом, желая друг другу веселой зимы. После обеда отправились все в глубину парка к памятнику дедушке и бабушке, родителям отца. Этот белый памятник, со всегда зажженной лампадкой, навсегда запечатлелся в моей памяти. Рядом с ним находилась могилка-холмик моего братишки, погибшего от воспаления легких.
После долгих сборов наконец состоялся наш отъезд. Отец собрался нас сопровождать, несмотря на страдную пору в имении. По старому обычаю, все уселись в гостиной под образами. Няня заливалась слезами, да и я сама еле сдерживалась. Камень лежал на моей душе. Отец первый поднялся, перекрестился, и мы все начали обниматься, целоваться и крестить друг друга.
Путешествие в поезде было интересным. Я не отходила от окна, в котором мелькали наши степные пейзажи, деревеньки, утопающие в вишневых садах, соломенные крыши белоснежных хат, зеленые купола церквей. Иногда показывались и блестели вьющиеся, как змеи, реки. Все это убегало перед глазами, и жгучая тоска закрадывалась в душу. Убегавшие пейзажи напоминали, что скоро я больше не буду видеть эти любимые просторы. Суровая казенная обстановка заменит их надолго. Алеша, скромный, застенчивый кадет, иногда подходил ко мне. Мы обменивались впечатлениями, вспоминали минувшее лето, наши прогулки, купание и верховую езду. У тети Саши оказались неожиданные дела в имении, и она с нами не поехала. С грустью вспоминала я Луню и других моих деревенских приятелей, с которыми протекло мое беззаботное детство. Несмотря на мои восемь лет, я отлично понимала, что очень важная страница моей жизни перевернулась и что совсем новое ждет меня впереди.
Остановились мы в снятой отцом квартире, переночевали, и на другой день он отвез меня в институт. Начальница Кандыба, очень высокая, худощавая дама, встретила нас холодно и величаво. Она сразу же вызвала классную даму, которой меня поручила. Затем, объяснив моему отцу главные правила учреждения, отпустила его. Я едва успела попрощаться с ним, мне даже показалось, что он торопится избавиться от меня.
Попала я в самый младший, седьмой класс, где все девочки были старше меня. Я сразу подружилась с двумя: Лизой Варун-Секрет4 и Марусей Загорской. Обе они были дочерьми крупных помещиков нашей губернии. Отец Лизы играл значительную роль в Государственной думе. Маруся была очень красивая девочка: жгучая брюнетка, высокая и очень смелая. Общность интересов, воспоминания о привольной деревенской жизни тесно сблизили нас. Эта дружба была для меня большим спасением в новом моем существовании. Я задыхалась в суровой институтской обстановке. Приседания перед плавно проходившей начальницей. Длинные, утомительные церковные службы, постоянные придирки и замечания классных дам, ни минуты свободы. Весь день был распределен не только по часам, но и по минутам. Все это было томительно, скучно и однообразно. По ночам я проливала молчаливые слезы, вспоминая покинутый столь любимый Веселый Раздол. Часто мне снились наши огромные осокори, широкая плотина над первым прудом, молчаливым и неподвижным, Мендель, влезший в окно и расположившийся на моей кровати всем своим грузным собачьим телом. Я просыпалась в холодном поту и с тоской замечала, что нахожусь в огромном дортуаре[6], где спит весь мой класс. Многие, словно в бреду, бормотали что-то во сне. К счастью, через две недели появилась тетя Саша и стала аккуратно меня навещать. Приемы были по четвергам и по воскресеньям. Училась я неплохо, но без малейшего азарта. Сразу же оказалась первой по-французски, но арифметику возненавидела и никогда в ней не имела успеха.
Я вся напряженно жила одной мечтой о возвращении в деревню и огорчалась, что так долго ползет зима. Но несмотря на то что она долго ползла, приключений и неожиданных событий было много.
Еще перед окончательным заключением мира с Японией в городе начались большие беспорядки. Со всех сторон поднялись революционные силы. Студенты, конечно, принимали большое участие в этом движении. Были дни, когда нас не выпускали даже в сад. Слышались стрельба, какие-то выкрики и громкие песни. Один раз кто-то выстрелил в окно нашего большого зала, где находились портреты государя и всей царской семьи, также были портреты других царей в другую эпоху. Настроение в институте было напряженное, и уроки часто пропускались, так как преподаватели не могли явиться вовремя. На улицах постоянно происходили стычки полиции с революционным элементом. Все это сильно нарушало весь обычный ход жизни. После нескольких острых периодов порядок начал устанавливаться. Мои подруги Лиза и Маруся очень волновались за родителей, оставшихся в имении, что было очень опасно. Усадьбы горели, и были постоянные нападения и убийства помещиков.
Наконец настали каникулы. Тетя Саша приехала за мной и увезла меня в свою квартиру, где было уютно и тепло. В сочельник мы были приглашены к родственникам отца Высоцким, где ели традиционную кутью из риса с изюмом и медом, а также узвар – это компот из чернослива и других сухих фруктов. Отец также появился у них на постный ужин, и, конечно, начались разговоры о политике – тема, которую он особенно любил. При этом он волновался, кипятился, часто затрагивал еврейский вопрос. В них он видел большое зло для России, но вместе с тем я помню, как он всегда заступался за евреев-стариков, которые держали маленькую лавчонку у нас в деревне. Крестьяне их терпеть не могли, обижали и придирались к малейшему пустяку. Отец особенно выступил в их защиту, когда из японского плена вернулся их сын Дудик без ноги. Он вернулся с другим солдатом из деревни, совершенно здоровым. В плену японцы устроили Дудику такой протез, что в то время в России никто не мог и мечтать о таком. Отец говорил с крестьянами, объясняя им, что молодой еврей так же сражался за Родину и потерял ногу, являясь жертвой войны, как и многие русские. Это очень повлияло на всю деревню. С тех пор отношение к ним очень смягчилось. Несмотря на очень грубые нравы, чувствительность и подчас даже чуткость всегда существовали в русских душах, даже в самых темных и отсталых кругах.
В первый день Рождества, простояв длинную торжественную службу в церкви, мы отправились в цирк. Это был мой первый выход. Я ничего подобного раньше никогда не видела. Этот цирк под именем «Пауло» содержался итальянским антрепренером и был весьма примитивный. Однако на меня все это представление произвело потрясающее впечатление. Прыгающие через обручи собаки, танцующие парами медведи, лихие всадники-джигиты, поднимающие на полном ходу носовые платки. Особенно я была очарована жонглером, который верхом на лошади жонглировал четырьмя мячами. Мне показалось это верхом искусства. Меня вдруг охватило стихийное желание сделаться частью этого цирка: выступать с мячами, летать на трапециях – словом, приобщиться к этой прекрасной, таинственной жизни.


