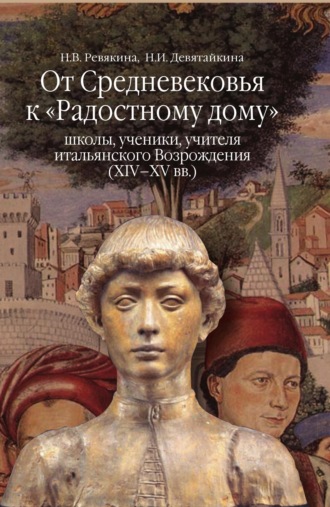
Нина Ревякина
От Средневековья к «Радостному дому»: школы, ученики, учителя итальянского Возрождения (XIV–XV вв.)
Грамотность в повседневной жизни города
Если обратиться к повседневной деловой жизни города, то свидетельств о большей или меньшей образованности горожан в новеллах не счесть. Часто речь идет о том, что горожане отправляют деловые письма, берут и дают разного рода расписки, заслушивают читаемые в суде приказы и решения, ведут счета или просматривают их, а это тоже свидетельство грамотности, обычности подобных дел. Бумага, чернильница, перо становятся предметами повседневного обихода. Всякий купец-путешественник был обучен искусству коммерческой переписки, умению вести путевые заметки, из которых постепенно складывались «памятные книги», учебники-трактаты по торговле, экономике, обмену денег и т. д. Постепенно люди этой эпохи все больше проникаются пониманием, что знания нужны не только, чтобы уметь зарабатывать и использовать средства для предпринимательских дел, но и чтобы приобщаться к культуре. Начали появляться учебники «хороших манер», которые купцы с охотой покупали и несли в семьи. Поистине бесконечные письма пишут друг другу влюбленные молодые люди и девушки, передавая их тайно через слуг.
Отцы дают повзрослевшим детям деловые советы. Чертальдо рекомендует сыновьям носить в сумке, где хранятся деньги, тетрадь и записывать в нее все, что должен сделать. В своих наставлениях он заговаривает о тетрадях несколько раз. Например, советует записывать в какую-то тетрадь все действия у нотариуса, в том числе день, когда это происходит, имя нотариуса, составляющего бумагу, имена свидетелей и пр. Опять же ясно, что подобным советам довольно легко следовать. Более того, Чертальдо советует еще и изготовить копию такой тетради, и хранить ее в самом надежном месте. Альберти как раз во времена образования первых гуманистических школ рассказывает о целых домашних реестрах и книгах, которые ведутся в семье, и куда записываются все события. В том числе – день и год рождения ребенка. Из его рассуждений ясно, что эти записи ведутся на протяжении жизни нескольких поколений, составляют важную часть забот старших членов семьи. В «Книгах о семье» автор вспоминает о бытовавшей с давних пор в их семье поговорке, что руки купца всегда должны быть в чернилах. И один из участников диалогов, в форме которых написана книга, с удовольствием разъясняет, что в торговле, как и в любой профессии, где приходится иметь дело с множеством людей, необходимо записывать все сведения, все договоры, все траты и поступления извне, и потому часто все переписывать, т. е. не выпускать пера из рук.
Добавим еще одну замечательную примету времени: Альберти советует держать все записи – и свои, и своих предков – под замком, в кабинете, чтобы их никогда не могла найти и прочесть жена. Посмотрим и с другой стороны: перед нами свидетельство «укорененности» образования в таких семьях, как купцы Альберти, свидетельство грамотности женщин, и ограничения сферы их домашних «свобод», по крайней мере по части деловой и финансовой информации.
Итак, повторим, вести такие записи не просто не составляет никакого труда. Они становятся частью делового ритма жизни купца, помогают в делах. Об этом свидетельствует много советов, в том числе – каждый день подводить баланс. Записи, как показали исследования, чаще всего велись на итальянском языке, который, очевидно, осваивался с ранних лет.
Как о повседневных делах речь идет о свадебных контрактах, долговых расписках, налоговых списках, расчетных книгах, завещаниях, о возможности их изменить или отменить. Тема завещаний становится сюжетом новелл, высмеивающих алчность священников и их показную строгость в отношении христианских обычаев. Встречаются и просто забавные эпизоды: в одной из новелл жена просит мужа оставлять ей письменные напоминания о том, сколько соли положить в похлебку.
Отношение к невежеству. С другой стороны, этот же Саккетти рассказывает, как деревенские отцы посылали своих сыновей в город, не желая, чтобы они окончили свои дни в косности и невежестве. Он не раз повторяет мысль, что невежество, необразованность – это качества, которые могут выставить человека на посмешище, сделать «героем» злого городского анекдота. Немало смешных и критических новелл рассказывают, например, о плохо знающих латынь клириках, особенно мелких служителях церкви, которые без латинской учености, по протекции, добиваются для себя доходных мест. «Как невежествен был этот попик», – с осуждением восклицает Саккетти по поводу одного из таких персонажей, который, затрудняясь ответить на вопрос папы Бонифация «Что есть кадильница», заданный на латыни, неверно понял жест своего благодетеля-кардинала, пытавшегося подсказать ему, и ответил развязно такое, что невозможно процитировать в данной книге. Папа, давясь смехом, махнул рукой, но в должности утвердил. Здесь ученость выступает условием честного назначения на должность, порицаются высшие церковные иерархи, которые допускают в свои ряды плохо подготовленных лиц. «В чьи только руки не попадает Господь наш», – сокрушается Саккетти. В другом тексте, в проповеди, Саккетти еще сильнее выражает свое отношение: он сетует и негодует, что на шесть священников приходится один, не знающий грамматики, необразованный и нескромный. Это, по мнению писателя, очень разочаровывает в церкви и вере «порядочных людей».
Нетрудно понять, что горожане вроде Саккетти вполне разделяли представления первых гуманистов, как говорилось, почитали их. Например, одной из популярных книг Петрарки было сочинение «О средствах против превратностей судьбы». Там ведут разговоры-диалоги аллегорические персонажи. Главный – Разум. Читатели, думается, не могли не восхищаться его ученостью и не соглашаться с его репликами-суждениями о невежестве.
Разум выказывает образованность удивительную: он почти беспрерывно адресует к историческим примерам – от греческой и восточной древности до раннего Средневековья; он сыплет многими десятками, даже сотнями, имен – исторических, мифологических, литературных; он приводит суждения многих же десятков авторов от библейских праотцов, Аристотеля и Платона до отцов христианской церкви, а также римских философов и писателей; он обильно цитирует строки из исторических, естественнонаучных, этических, полемических сочинений, писем, поэм и стихов, остроумно пересказывает яркие случаи, свободно ориентируется не только в классической мифологии, но и в преданиях германской старины и текстах ранних «отцов» германской истории. Иными словами, перед читателями предстает персонаж-эрудит, наставник, философ, образованная личность.
Полной противоположностью, на первый взгляд, выглядят собеседники Разума. Это Радость, Надежда, Печаль, Страх. Кажется, что они-то могут стать объектами критики горожан. Радость произносит в разных разговорах лишь короткие фразы, часто повторяет себя, почти слово в слово. Примерно так же ведут себя другие персонажи, возможно, чуть «разговорчивее» время от времени становится Печаль. Они практически не называют имен авторов, не припоминают каких-то культурных или исторических фактов и т. д.
Однако при погружении в смыслы текста картина меняется, и это не могли не понимать горожане – читатели того времени. Радость нередко говорит от лица таких людей, которые не могут не быть хотя бы в «обычной» степени образованными. Среди них – римские папы, императоры, знатные синьоры, писатели, обладатели ученых званий и титулов, школьные учителя, музыканты.
Они часто обсуждают, что важнее, сила или знание. Разум доказывает, что силы физические со временем тают и потому не могут служить серьезным поводом для гордости собой. Среди свидетельств, которые позволяют судить об отношении собеседников к учености, есть и такие: «Ты, – говорит Разум, – думаю, будешь основывать свое суждение (о мудрости. – Авт.) на научных званиях, а их великое множество». Эта фраза из диалога «О мудрости» – незамысловатое, но любопытное свидетельство времени. Получается, что образование, ученость в глазах общества становится статусным признаком, встающим рядом с привычными для средневекового человека «знаками» вроде знатности, обладания властью, рыцарским достоинством.
Мы видим, что образование ставится выше владения домами и замками, выше имущества, богатства, золота, денег. Налицо новые ценностные ориентиры, образование рассматривается как непреходящее благо. При этом убедительные примеры черпаются из истории самого культурного народа, вскормившего европейскую цивилизацию. Петрарка называет образованных людей своего времени, хвалит их. Например, очень одобрительно отзывается о правителе города Парма Аццо ди Корреджо, своем друге с университетских лет. Петрарка хвалит его тяготение к людям образованным и «постоянное и непрестанное чтение и упоминание знаменитых писателей». Много примеров высокой образованности Петрарка находит в древности. Он не один раз напоминает, что принцепсы-императоры Август и Аврелий были самыми образованными представителями власти своего времени. С большим почтением поэт всегда говорит о высокой учености глубоко почитаемых ранних Отцов церкви – Иеронима, переводчика Библии, и Августина, автора знаменитого сочинения «О Граде божьем».
Наконец образованность диктует особый образ жизни. По словам Разума, в очередной раз цитирующего Цицерона, «для образованного человека жить значит мыслить» – vivere est cogitare. Такому образу жизни, равно как и манерам «великих людей и ученых мужей», похвально «подражать» при понимании, что подражание не должно быть слепым.
Для Петрарки-гуманиста базой такого образования, как показывают речи Разума, является римское наследие: латинский язык, само собой разумеется, довольно широкий круг поэтов и прозаиков, историков, философов, авторов естественнонаучных сочинений.
Еще отчетливее звучат такие речи во времена гуманистов-педагогов. Альберти полагает, что во всякой семье надо так воспитывать молодежь, чтобы с возрастом у нее прибавлялось знаний и учености. Он считает такое воспитание продолжением старинного доброго обычая.
Самое неожиданное – в пользу образованности высказываются во времена Альберти священники, например, знаменитый Доминичи. С этим хорошо известным монахом, важным лицом церкви – кардиналом – интересная история. Она приводит нас опять к семье Альберти и началу XV в. Молодой вдовой осталась Бартоломея дельи Альберти. Она попросила Доминичи дать подробные советы, как ей воспитывать сыновей. Тот откликнулся и написал большое, действительно подробное сочинение, к которому мы еще обратимся, но в данный момент – только в связи с взглядами Доминичи на образование. По его мнению, лучше всего воспитывать детей образованными и искусными. Он признает, что это трудно, но возможно, и они, получив хорошее образование и воспитание, обязательно попадут в рай. Конечно, у Доминичи свое, совсем не такое, как у Петрарки, представление о том, каким должно быть образование, что должны дети изучать, об этом пойдет речь в другом месте, сейчас важно увидеть одно: и для него образованный человек лучше, счастливее, чем богатый. Он повторяет эту фразу не один раз, добавляя, что образование принесет любые блага. Оно делает человека праведником, открывает дорогу к вечному блаженству души, утверждает Доминичи и осуждает невежество.
Место итальянского языка. В итальянской жизни, образовании, школе, университетах сошлись, как уже понятно, два языка: говорили все на разных диалектах итальянского, например, тосканском, венецианском, неаполитанском и др., читали и писали на тех же диалектах и на латинском. Мы еще будем разбираться, какой из языков и как изучался и использовался на разных этапах школьного обучения или в разных типах школ. Сейчас пока попытаемся понять, что нес с собой для культуры и образования формировавшийся литературный староитальянский язык. Здесь очень многое сделал Данте. Он даже написал специальное сочинение в защиту итальянского языка, доказал его красоту и силу в своей великой «Божественной комедии». Ее текст два с половиной века до изобретения книгопечатания переписывали по заказу, это стоило немалых денег. Выяснилось, что поэма была в домашних библиотеках не только богатейших знатных лиц, но и купцов, интеллектуалов, порою – и простых учителей. Боккаччо подарил собственноручно переписанный текст «Божественной комедии» своему старшему другу – Петрарке. Он сопроводил свой дар красивым стихотворным посланием на латинском языке, которое начинается строкой «Италии уже известен». Боккаччо же написал биографию Данте, прекрасный страстный текст, в котором утверждает, что Данте сделал для «народного» языка то же, что Гомер для греческого. Он заявляет о правильности выбора Данте в пользу этого языка для «Божественной комедии», потому что поэт приобщил к ней огромное число людей «необразованных», т. е. не умевших читать на латинском языке. В противном случае «Комедия» осталась бы доступной только «небольшому числу сограждан». А теперь она служит не только мужчинам, но и женщинам, и даже детям.
Дети, конечно, могли слышать о Данте в семье, заучивать некоторые строки его поэмы. Поразительный случай-анекдот, и не один, произошел с самим Данте. Как-то он услышал, что кузнец напевает строки из его поэмы «Божественная комедия», правда, по-своему, то укорачивая их, то удлиняя. Это значит, что популярность поэмы была практически всенародной, ее пели уже как народное произведение, не зная автора. В другом месте Данте слышал, как поэму поет погонщик ослов и добавляет собственные реплики. Поэта узнавали на улице: одна синьора таинственным шепотом сказала подругам, глядя на проходившего мимо Данте, что он побывал в аду и поэтому такой темнокожий и курчавый – от пламени. В Равенне у его гробницы ставили свечи, как перед изображениями святого.
Боккаччо и его «Декамерон» были также популярны. «Декамерон», написанный, как скромно говорит автор, «народным флорентийским языком, слогом простым и незатейливым», читала вся Италия. Как выявили итальянские специалисты, среди сохранившихся до наших дней рукописей «Декамерона» XIV в. больше двух третей являются собственностью торговых династий. Во Флоренции ими владели все члены банкирского дома Барди и еще не менее десятка подобных домов, а также состоятельные семьи в Венеции, Сиене, Ареццо, Неаполе. На полях рукописей попадаются следы расчетов по ссудам, записи о залоге этих книг и т. д. Многие добровольно переписывали, как свидетельствуют пометки, «для себя, для родных и друзей». Значит, произведения этих прославленных писателей тотчас становились частью городской культуры, городской среды.
Городская семья: дети и взрослые
Тема школы непосредственно связана с темой семьи. Доступные нам источники и материалы позволяют представить общую картину – какой была итальянская городская семья, какую роль играли в ней родители и родственники, как растили детей, как рано они начинали соприкасаться с взрослым миром, как это сказывалось на их поведении.
В Средние века жизнь человека делили на шесть периодов: младенчество, детство, отрочество, юность, зрелость и старость. Первые четыре этапа, которые нас особо интересуют, завершались в 25 лет. После 60 люди считали себя совсем стариками. Дети рождались прямо в доме, не в больнице, помогали при родах опытные родственницы старшего поколения или повитухи, знающие родовспоможение. Саккетти много раз называет в своих новеллах число детей в той или иной семье: очень часто от 7 до 11 и больше. Другие писатели его времени называют цифры от 13 до 26 детей. Именно 26 детей было в семье одной из самых знаменитых итальянских святых, жившей во второй половине XIV в., Екатерины Сиенской. Она была младшей в семье состоятельного ремесленника-красильщика, объявила, что хочет стать «невестой Христовой», проводила дни и ночи в молитвах, беседовала только с монахами. Они рассказывали ей, что происходит в мире, она давала свои комментарии. Монахи писали под ее диктовку письма и ученые сочинения. Екатерина получала много посланий от самых важных деятелей церкви, читала сама, да и писала много, т. е. имела хорошее домашнее образование. Слог ее был настолько красив и правилен, что Екатерину считают одной из создательниц итальянского литературного языка, наряду с Данте и Петраркой.
В семье флорентийского купца Танальи было 13 детей, в семье знатной флорентийки Алессандры Строцци, имя которой получило большую известность из-за ее 73 писем, адресованных сыновьям, было 8 детей. С радостью рассказывает о своей большой семье Альберти, считая, что надо иметь «множество детей»; он предупреждал своих сыновей, что с детским возрастом сопряжено много болезней: и оспа, и краснуха, и корь, и несварение желудка, и все это рождает тревогу. Он советует быть предельно внимательным к детским недомоганиям, мечтает, что его сыновья до 60 лет не узнают, что такое смерть детей и внуков, как посчастливилось правителю Сиракуз тирану Дионисию.
Очень многие дети из-за разных болезней или несчастных случаев умирали, не дожив до 8 лет. Флорентийский купец и владелец мастерской по изготовлению шелка Грегорио Дати, современник гуманистов-педагогов первой половины XV в., записал в своем дневнике даты смерти своих 14 детей, умерших во время эпидемии. Всего у него было 18 детей. При тяжелых эпидемиях вроде чумы, как подсчитали ученые, из 20 детей в среднем выживали только шесть. В новеллах Саккетти и Боккаччо есть немало историй о таких печальных событиях, а также о радости, если ребенка удавалось спасти. Например, ребенка мог утащить в лес и сожрать волк. Он мог выпасть из окна и разбиться насмерть, утонуть в реке, заблудиться в лесу и не найти дорогу домой. Не обошлось без драматических случаев, – к счастью, с хорошим концом, – и в реальной жизни наших героев. Так, когда Франческо Петрарка был совсем малышом, 7–8 месяцев от роду, его родители перебирались из одного места в другое. Малыша нес слуга, при переправе через реку лошадь вдруг понесло, и только неимоверными усилиями слуга смог спасти ребенка, едва не утонув сам. А в конце жизни, когда писатель стал дедом, на его глазах буквально сгорел от температуры трехлетний внук, что стало большим горем для всей семьи. А сколько утешительных писем он написал своим друзьям по поводу безвременной смерти их детей!
Вернемся к началу жизни ребенка.
Вскоре после рождения его крестили. Это было обязательным для всех христиан таинством. Младенца несли в церковь, погружали в воду (купель), произносили необходимые в церковных обрядах слова и действия. Тут же младенца нарекали. Очень часто мальчиков и девочек называли по именам святых, которые почитались в данном городе, были его покровителями. Альберти с гордостью перечисляет красивые и славные имена, которые бытовали в их семье: Диаманте, Альтобьянко, Кальчедонно, Керубино, Алессандро. Он добавляет, что славное имя словно бы обязывает всегда быть на высоте как прозвания, так и добродетели, а несуразное способно принизить достоинство. Он, кстати, добавляет, что важно записывать в домашних книгах час, день, месяц и год, а также место рождения. И рекомендует хранить эти записи как зеницу ока.
Доминичи советует родителям тщательно подготовиться к таинству крещения, думать не о красивых пеленках и шелках, не о праздничном обеде, а о Боге, добродетелях, воспитании ребенка в духе благочестия.
Когда ребенок подрастал, начинал понимать Евангелие, ходить в церковь, он проходил второй важный обряд – причащение. В городских семьях купцов и предпринимателей, дворян и знати очень заботились о воспитании детей. Для них на первом плане с малых лет оказывалось его здоровье, благочестие и послушание, умение хорошо вести себя за столом, в церкви, на людях. Перед едой маленькие дети, часто опершись на колени матери, сложив руки, читали молитвы, все остальные слушали и повторяли их. Это называлось благословение стола.
Все, что коснется этого стола,
Благословится именем Христа.
В правилах детей наставляли: «Чаще мой руки, обязательно – перед едой. Если вытащил кусочек пищи изо рта, не клади его в тарелку. Не плюй за столом, не спи за столом». Последнее нам подсказывает, что детей поднимали рано, они могли не всегда выспаться. Ведь вставали в шесть часов утра, по звону колокола. И умывшись, спешили на службу в церковь, а по возвращении завтракали.
До нас дошло много городских сочинений, авторы которых рассказывают, как именно следует воспитывать детей. Они показывают, что в семье царил суровый патриархат, власть отца и мужа. Паоло Чертальдо, флорентийский торговец зерном, автор замечательной «Книги о добрых нравах», хорошо воспитанный своим отцом-нотарием, яркими красками нарисовал нам семью его времени. «Книга» была написана в 1360-е годы и состоит из 388 маленьких главок или, точнее, параграфов, как будто маленький семейный закон. Чертальдо излагает правила и дает советы – от деловых наставлений до благочестивых суждений о семье, браке, детях.
Много рассуждает он о важном умении с детства больше слушать и смотреть, чем говорить. Приведем его «купеческие» аргументы: «Наш Господь Бог дал человеку два глаза, два уха, две руки, и один рот исключительно для его блага. Во всех случаях поэтому следи за тем, чтобы два раза увидеть, два раза услышать, два раза коснуться, но один раз сказать, так как язык может сделать то, чего не сделает и нож. Остерегайся того, чтобы много и попусту не говорить, и не ошибешься». Он, кстати, добавляет по поводу еды: «После еды тоже вымой руки, рот и зубы, и всегда будешь чистым. Кроме того, это признак хорошего воспитания». Таким же признаком были субботние процедуры мытья волос и тела – в банях или дома. Героини «Декамерона» расчесывают свои волосы изящными гребнями из слоновой кости, которые привозили на продажу из Франции.
Авторы этой эпохи подробно пишут о наказаниях как важном условии хорошего воспитания. Так, Антонио Пуччи, поэт и изготовитель колоколов, рассуждает: «Когда ребенок шалит, наставляй его словами и розгами; после семи лет наказывай его кнутом и кожаным ремнем. Когда ему перевалит за пятнадцать лет, используй палку, бей его, пока не попросит прощения». Мы увидим, что такие порядки перешли из семей в школы, и только гуманисты-педагоги поднимут свой голос против подобного воспитания. На суровость отца сетует персонаж диалога Петрарки, который несколько раз заявляет, что отец у него суров, очень суров, неумолимо суров, и это болезненно. На эти сетования ответ у главного героя диалогов по имени Разум один: суровость целительна, розги хороши, для сына суровость полезнее мягкости; нет на земле справедливее власти, чем власть отца. Дело сына – выказывать любовь, почтительность, терпение, покорность. Сын – полная собственность отца. А теперь послушаем отцов. В частном пространстве, т. е. в доме и семье, роль мужчины рисуется в других диалогах Петрарки, как у Чертальдо, в традиционном ключе, прежде всего как довольно сдержанного, в чем-то даже сурового, но мудрого отца семейства, ответственного за все происходящее. Это он добывает средства и распоряжается ими, поддерживает порядок в доме. Петрарка использует весь привычный арсенал примеров, чтобы убедить читателя и более всего – молодого, что суровость отца «часто бывает целительной для сына». Главная идея диалогов: сын не должен ничего худого говорить об отце, «почтительный сын по отношению к отцу проявляет только одно – послушание, смирение, покорность». Нетрудно увидеть, что добродетели сына вполне совмещаются с главными добродетелями христианина вообще.
Петрарке важны не только положительные, но и отрицательные примеры, поучающие «от противного». И здесь ему под руку не в первый раз попадается герой средневековых рыцарских романов Александр Македонский. Конечно, не как литературный персонаж, а как историческая личность. Петрарка-Разум очень резко говорит, что «самое отвратительное в Александре было то, что он пытался злословить об отце, уж не стоит вспоминать о его зависти к отцовской славе».
Тему поведения детей лет через 40–50 схожим образом развивает монах Доминичи: при ответах и рассказах пусть речь детей будет робкой и мягкой. Зовя отца, они должны почтительно говорить: «Мессер падре» и «Мадонна мадре», а не «папа» и «мама». Такая модель отношений усваивалась сыновьями, они повторяли в себе отцов, на которых в молодости жаловались.
Как и ныне, создание семьи начиналось с выбора невесты. Как правило, заботой городской семьи, в которой росла девочка, было не только обеспечить ей приданое, но и обучить домашним делам. Чертальдо высказывается на этот счет так: девочек следует учить шитью и всем другим видам домашней работы: выпекать хлеб, ощипывать кур и петухов, просеивать муку и готовить, стирать, застилать постели, прясть, ткать кошельки, вышивать шелком, кроить полотняную или шерстяную одежду, штопать носки и иным подобным вещам, чтобы они, когда вы выдадите их замуж, не выглядели белоручками.
Чертальдо не считает лишним напомнить о Деве Марии. «Девочки и девушки должны следовать примеру Пресвятой Богородицы <…> Она не выходила из дома, не бродила всюду по городу, слушая и разглядывая мужчин и другие суетные искушения, но оставалась скрыта и заперта в уединенном и достойном месте».
Все, что касалось поведения девушки, тщательно разузнавалось, считалось очень важным делом. От нее как невесты ждали и красоты, и ума, хотели, чтобы она была из хорошей семьи. Затем начиналось сватовство, подготовка брачной церемонии. Девушек выдавали обычно замуж в 12–14 лет, для мужчин лучшим считался возраст в 20–30 лет. Бывали и более юные невесты. В одной из новелл Боккаччо главный герой отдает в жены знатному молодому человеку одиннадцатилетнюю красавицу с большим приданым. Правда, в другой новелле родственники не очень торопились со свадьбой девушки, которой уже минуло 15 лет: она была первая красавица в городе, и красоте соответствовали скромность и добронравие. Наречь же женихом и невестой в расчете на будущее могли и в 8 лет. Именно столько было Джемме Донати, когда семья Данте договорилась о его женитьбе на ней. Самому Данте было тогда 12 лет. Бывало, что помолвку устраивали сразу после рождения детей.
Церковные служители присутствовали на всех этапах свадебной церемонии и освящали помолвку, заключение брачного договора, венчание. Священник при венчании встречал жениха и невесту у входа в церковь и провожал к главному месту – алтарю, где проводил красивый обряд. Считалось, что соединение жениха и невесты в одну семью совершается на небесах, и потому разводы церковью были запрещены.
Священник также скреплял важный документ – брачный договор, в котором обозначался размер приданого невесты. Его копили много лет, в итальянских городах даже возникли специальные «банки приданого», где за 10–12 лет вклад увеличивался. Например, если отец клал при рождении дочери 500 флоринов, к моменту свадьбы их бывало уже 750–800.
Средняя сумма этого приданого для «приличной» семьи – около 1000 флоринов. Мы располагаем очень интересными свидетельствами, связанными с хлопотами названной выше Алессандры Строцци. Ее муж довольно скоро покинул этот мир. На руках у вдовы остались пятеро малолетних детей, две дочки и три сына; когда они выросли, она озаботилась их семейным будущим. Сама монна Алессандра имела приданое в 1600 флоринов, замуж вышла в 16 лет. Подыскивая сыновьям невест, она обрисовывала в письмах их внешние данные, умения, возраст и размер приданого. Вот до нее дошли слухи, что у одной из невест (из той самой семьи купца Танальи, в которой было 13 детей, при этом 7 девочек), приданое составляет 1000 флоринов. Монна Алессандра с неудовольствием замечает, что это сумма для ремесленников. Ей гораздо больше нравится размер приданого у двух сестер из рода Адимари: за каждой давали по 1500 флоринов. Старший сын женился на одной из этих сестер с красивым именем Фьяметта и был счастлив в браке. (Увы, его жена умерла через несколько лет, и он женился вторично.) Другой сын Алессандры взял в качестве приданого 1400 флоринов.
Монна Алессандра еще и выдавала замуж дочерей. Приданое одной составляло 1000 флоринов (она «забыла», как критически отзывалась о подобном приданом, когда речь шла о невесте для сына), жених был сильно влюблен в красавицу-дочь, только платье и украшения, подаренные им невесте на свадьбу, стоило 400 флоринов. Вообще жених дарил невесте подарки, более или менее равные приданому. У супругов родилось затем 9 детей. С младшей дочерью пришлось хлопотать больше. В конце концов жених нашелся: ему было 46 лет, невесте 18. Сколько за ней дали приданого, мы не знаем. Эта чета имела пятерых детей, жилось им туговато.
Как видим, в данном случае мать создает семьи, «находит» невест женихам. В поисках женихов для дочерей ей помогают сыновья. Чертальдо не очень приветствует такое в отношении молодых людей, считает, что отец или мать не должны навязывать сыну свой выбор. Но другие в его время считали иначе. Новеллы и хроники наших авторов, а также наставительные сочинения, да и гуманистические тексты – Петрарки, Альберти – также немало рассказывают об этом.
В диалогах Петрарки обрисованная выше модель выглядит как вполне жизнеспособная на всех этапах истории семьи. По крайней мере в отношении к детям, в том числе повзрослевшим. Скажем, в диалоге «О супружестве детей» Радость и Разум с редкостным единодушием обсуждают тему замужества дочери. Кто ей диктует волю, ясно из реплик Радости: «Я выдал дочь замуж»; «Я отдал дочь мужу»; «Я дал дочери мужа». То же самое обнаруживается по отношению к сыну: «Я дал жену сыну», «Я нашел жену сыну».
Любовь, чувства, взаимная симпатия, личный выбор не попадают в сферу внимания и обсуждения участников данных диалогов. Правда, Радость выражает свое большое удовлетворение по поводу «статусного» характера браков дочери и сына, заявляя в цитированном выше диалоге, что нашел сыну «супругу высокородную, богатую и красивую», а дочери – блестящую партию.
Но в этих случаях согласие между собеседниками совершенно исчезает. Разум в ответ на заявление Радости о знатной невесте излагает целый ряд социально-поведенческих характеристик. Такая супруга – «надменная, дерзкая, ревнивая по отношению к мужу, строптивая по отношению к свекру». Здесь нетрудно рассмотреть привычное для Петрарки, ренессансного гуманиста, критическое отношение к знати, обобщение житейского опыта неравных браков, осуждение методов воспитания в дворянской семье. Его устами здесь говорит горожанин.
Чертальдо убежден, что только в семье, где между супругами существует взаимное уважение и доверие, можно воспитать хороших детей: им есть с кого брать пример.



