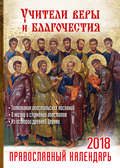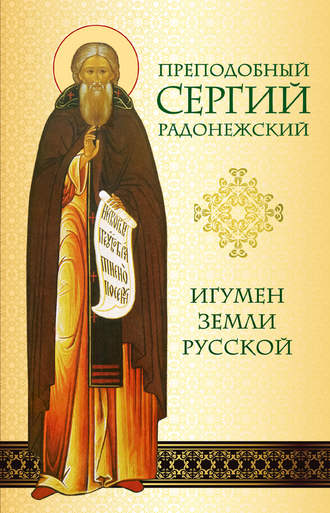
Нина Малахова
Преподобный Сергий Радонежский. Игумен земли Русской
Нашествие Бату-хана
Неисповедимы пути Господни, и история иногда поражает нас странными совпадениями. Первый признак грядущей исторической катастрофы, уничтожившей некоторые народы, стершей с исторической карты целые государства, круто изменившей привычное соотношение сил в мире, проявился на Востоке, в далекой Монголии. В то самое время (1155), когда святой Андрей Боголюбский задумывал создание новой своей столицы и объединения северо-восточных княжеств, вынашивал планы тайного ухода из Киева в свой любимый северный край, в семье могущественного монгольского феодала, стоявшего во главе нескольких воинственных монгольских племен, Есугея, родился мальчик, которому дали имя Темучэн (Темуджен, Темучин). Поначалу судьба была не особо милостива к Темучэну, словно испытывая его на прочность. Будущий завоеватель половины мира испытание выдержал, возмужал в опасной борьбе и подчинил себе все монгольские и татарские племена. В 1204–1205 годах курултай (съезд племенных вождей) провозгласил его великим хаганом – так в мир явился Чингисхан, основавший Монгольскую империю. Это государство не было похоже ни на одно из европейских или азиатских государств. Созданное на родоплеменной основе, оно крепко спаивалось единоличной, непререкаемой и неоспоримой властью верховного правителя. Железная дисциплина поддерживалась страхом смерти, которая была единственным наказанием за любую серьезную провинность, причем за бегство с поля боя казнили всю семью. К 1222 году практически вся Азия, от Китая до Кавказа, признала власть Чингисхана.
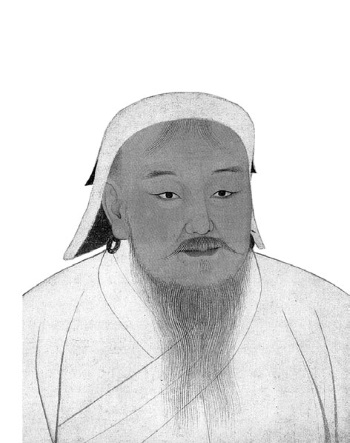
Чингисхан
В 1223 году два передовых корпуса монгольского войска под командованием молодого Джебэ и старого и опытного Субедэ, разгромив половцев, вольно расположились в приазовских степях и подошли к берегам Калки…

Лучник монгольской армии XIII в.
Русских князей появление монгольских отрядов не испугало – мало ли, какие народы выходили в Степь из далеких восточных стран, – Божией милостью со всеми справились. Однако все же собрали в Киеве съезд князей, на котором всеми делами заправляли три Мстислава – Мстислав Мстиславич Удатный, княживший в Галиче, Мстислав Романович, княживший в Киеве, Черниговский Мстислав Святославич – и Владимир-Волынский князь Даниил Романович, славившийся своим воинским искусством и удалью. Князя Георгия Всеволодовича тоже позвали на съезд, но он из своего стольного града не поехал, пообещав прислать полк на подмогу. Между тем из половецкой степи пришел отчаянный зов о помощи. Половецкий хан Котян, который доводился тестем Мстиславу Мстиславичу, просил у зятя подмоги против вторгшихся в его пределы отрядов Джебэ и Субедэ. «Нашу землю суть днесь отняли, – писал хан, – а вашу заутра, пришедше, возьмут». Однако князья, собиравшиеся в поход, похоже, готовы были шапками закидать незваных пришельцев, потому что и в походе каждый из них мечтал о своей единоличной славе победителя новых пришельцев. Самоуверенность и небрежность русских князей привели к тому, что они легко поддались на нехитрый маневр монголов: приняв их малочисленные разведотряды за основное войско, князья окончательно рассорились между собой и расстроили боевой порядок. Стремительно продвигаясь по приазовским степям, они нестройными отрядами вышли на берег Калки – и увидели перед собой несметные полчища противника. Поражение было сокрушительным, русские отряды были перебиты, шестеро князей во главе с Мстиславом Киевским попали в плен, смерть их была ужасна: их связали по рукам и ногам и бросили на землю, поверх них сделали настил из досок, на котором пировали победители. Мстислав Удатный и Даниил Романович с малой дружиной едва спаслись бегством.

П. Рыженко. Калка
Это страшное поражение ничему не научило русских князей. Усобицы продолжались, и никто из них не внял Божию предупреждению. А Чингисхан продолжал расширять и укреплять свои владения. Стареющий завоеватель поделил империю между своими сыновьями. Западная часть огромной империи досталась старшему сыну Чингисхана Джучи, который должен был вести монгольские войска дальше. Однако Джучи умер в один год с отцом (1227). Его сыну, Бату (в русской транскрипции Батыю), внуку Чингисхана, предстояло огнем и мечом пройти со своим войском до Дуная, сокрушая все на своем пути.
Бату-хан вел на Русь от двенадцати до четырнадцати туменов, общая численность их составляла около ста пятидесяти тысяч человек. Русские княжества могли выставить против них около ста тысяч воинов при условии, что князья сплотятся перед лицом общего врага и создадут по примеру завоевателей одну – сильную и дисциплинированную – армию под началом одного князя. Но русские дружины к началам такой централизации не были готовы, они привыкли подчиняться (да и то не всегда и не в полной мере) «своим» князьям. А князья, будь у них побольше времени на выяснение своих отношений, наверное, до самого последнего часа мерились бы честью и славой. Хроника нашествия страшна той стремительностью, с какой Батухан прошел по Руси огнем и мечом.

Хан Батый. Китайский рис. XVII в.
21 декабря 1237 года после десятидневной осады пала Рязань, так и не дождавшись помощи ни из Владимира, ни из Чернигова.
4 января была сожжена Москва после страшной сечи под Коломной, которая длилась три дня. Остатки русского войска во главе с молодым князем Всеволодом Георгиевичем, присланным отцом на помощь Москве, бежали во Владимир, где, только увидев их и выслушав их рассказы, великий князь Георгий смог понять всю огромность и безысходность беды, нависшей над Русской землей. Он оставил княжичей Всеволода и Мстислава оборонять город, а сам спешно двинулся на север собирать новые дружины.

Взятие монголо-татарами Владимира
3 февраля отряды Бату-хана подошли к Владимиру. Со страхом смотрели владимирцы со стен города. Была зима, но снега за городскими стенами они не увидели. Кругом были всадники, юрты, обозы – черным-черно. Монголо-татары неспешно и деловито приступили к осаде города. Часть их войска отправилась в Суздаль, захватила и разорила его. Стариков, детей и немощных перебили, а несколько тысяч «юных монахов и монахинь, и попов, и попадей, и дьяконов, и жен их, и дочерей, и сыновей – всех увели в станы свои». Нагих, босых, коченеющих от зимней стужи их водили под стенами Владимира, чтобы устрашить осажденных.
7 февраля 1238 года погиб прекрасный город, краса и гордость земли Русской, стольный град Владимиро-Суздальской Руси, с верой и любовью создававшийся святым Андреем, великим Всеволодом и его преемниками. Обгорелые каменные стены Успенского, Димитриевского и Рождественского соборов, Золотых ворот, Спасской и Георгиевской церквей на княжеских подворьях да Вознесенской церкви на торгу высились над громадным пепелищем, которое всего несколько дней назад было великим городом. Такой же участи подверглись четырнадцать городов Ростово-Суздальского и Рязанского княжеств.
4 марта пришел черед великого князя Георгия и русской дружины, спешно собранной им в северных областях, погибших в последней битве на берегах Сити. В страшной сече великий князь Георгий Всеволодович был зарублен монгольским конником. Голова его, по преданию, была поднесена в дар Бату-хану.
1239 год. В руины превращены Чернигов и Переяславль-Русский.
1240 год. Златоглавый Киев, вожделенная мечта русских князей, превратился в пепелище, заваленное трупами, которые несколько лет лежали непогребенными, ибо погребать их было некому.
Древняя Русь застыла над бездной небытия.
Иго
Ранней весной 1238 года по зимней еще дороге к Владимиру (вернее, к тому, что было когда-то Владимиром, цветущей столицей Владимиро-Суздальской Руси), спешно скакал небольшой отряд с князем во главе. Это был четвертый сын Всеволода Большое Гнездо Ярослав. Картины, сменявшие одна другую, могли бы лишить мужества и желания княжить на этой земле любого другого человека, но не Ярослава. Пепелища, непогребенные трупы, обезображенные хищниками, безлюдье… Такой Руси ни Ярослав и никто из русских князей никогда не видывали. И у любого другого, наверное, опустились бы руки и зашлась от горя и отчаяния душа. «Ярослав приехал господствовать над развалинами и трупами, – пишет Н.М. Карамзин. – В таких обстоятельствах государь чувствительный мог бы возненавидеть власть; но сей князь хотел славиться деятельностью ума и твердостью души, а не мягкосердечием»[4].

Б. Чориков. Вел. кн. Ярослав после разорения татарами Руси возобновляет города
И князь Ярослав принялся за дело, не рассуждая и не мешкая. По его приказу собрались оставшиеся в живых, до тех пор жавшиеся к лесам люди. Хоронили убитых, расчищали дороги, рубили избы, пекли хлебы, налаживали общественную жизнь. Неутомимый, деятельный, решительный, он не оставлял ни людям, ни себе времени на отчаяние и сомнение. Начал Ярослав с того, с чего начинали на Руси во все времена, – с восстановления храмов. Дело продвигалось быстро, и уже на следующий год Ярослав Всеволодович смог отдать последний долг старшему брату, которому он всегда был верным другом и помощником. Он перенес его останки в обновленный Успенский собор. Встречали гроб с останками князя-мученика всем городом, церковные песнопения заглушались плачем и рыданиями – казалось, прощались не только с князем Георгием, но и со всей прошлой жизнью, в которой было много неправды и зла, но которая теперь казалась несбыточно прекрасной. При положении святых останков во гроб случилось чудо, которое все приняли как небесный призыв к бодрости духа и упованию на милость Божию. Когда полагали тело в каменный гроб, приложили к нему и голову, отсеченную мечом, которая была найдена уже после погребения Георгия Всеволодовича, – и голова приросла к телу (рассказ летописца нашел неожиданное подтверждение в акте о вскрытии мощей, происходившего 13 и 15 февраля 1919 года: «У великого князя Георгия, убитого в бою с татарами… в котором ему была прочь отсечена голова, последняя оказалась приросшей к телу, но так, что можно было заметить, что она раньше была отсечена, так что и шейные позвонки были смещены и срослись неправильно»[5]).
Князь Ярослав первым из русских князей отправился в ставку к Бату-хану и принял из его рук ярлык на великое княжение. Это был первый знак ига – тяжелейшей политической и экономической зависимости от завоевателей, которая в ближайшие годы установится над Русской землей на два с половиной века. Князь Ярослав был человеком волевым и мужественным, двадцать лет он успешно защищал западные границы Новгородского княжества от агрессии западных соседей. Для такого человека добровольно склонить голову перед Бату-ханом, наверное, было нелегко. Но трезвый ум политика и патриота подсказывал иное решение: ради спасения того, что уцелело от Владимирской Руси, поступиться личным и сделать все возможное, чтобы сохранить ее государственное устроение, самобытность, территорию и людей, оставшихся после нашествия. Ярослав Всеволодович был Божиим избранником, промыслительно сохраненным на этот страшный час. Ведь как иначе объяснить его казавшееся современникам странное решение уйти в Киев в 1237 году? Он ушел туда, чтобы, воспользовавшись очередной сварой южных князей, попытаться усилить там влияние Владимиро-Суздальского князя. А спустя год стало ясно, что Господь хранил его на черный день Руси.
Бату-хан был умным и проницательным человеком, он понял и оценил поступок Ярослава Всеволодовича и принял его с честью – ему нужен был сильный и вполне легитимный вассал, который будет править завоеванной страной по его ханской воле. А для самого Ярослава и всей земли Русской было важно то, что править фактически будет природный русский князь, старший в роде Мономаховичей, законно владевших Владимиро-Суздальским княжеством, а не ханский ставленник. Поставление на великокняжеский стол Ярослава Всеволодовича было первым радостным событием после разгрома, что особо было отмечено в русских летописях. Однако правил Ярослав Всеволодович недолго. В 1246 году он был отравлен на обеде у вдовы великого хана Хубилая Туракины-хатун в далеком Каракоруме, куда был вызван по ее приказу в 1245 году.
Дело Ярослава Всеволодовича продолжил его старший сын – Александр Ярославич, святой благоверный князь Александр Невский. На его долю выпала сложная задача, требовавшая максимального напряжения всех его сил, духовных и физических. В трудные годы, когда формировалась система управления «Русским улусом», ему пришлось проявить свой недюжинный ум, проницательность, дипломатический талант, чтобы обеспечить автономность Руси, предотвратить расселение на русских просторах завоевателей. Ведь только в условиях самостоятельности, хотя и сильно ограниченной, можно было сохранить устоявшийся государственный строй и народный уклад жизни. С этой задачей он справился блестяще, но прежде ему предстояло сделать выбор – главный выбор в истории России: пойти на союз с Ватиканским престолом или внешне подчинить Русь монголо-татарским завоевателям, но сохранить государственность Руси и православную веру как духовный фундамент, основу ее жизни.

Вел. кн. Александр Ярославин Невский. Рис. из Титулярника 1672 г.
Чего потребует Римский папа взамен военной и политической помощи против завоевателей, было хорошо известно на Руси. В 1204 году с молчаливого одобрения папы Римского крестоносцы захватили Константинополь. Православные храмы были осквернены и разграблены, христианские святыни вывезены в Рим, уничтожены памятники искусства, дома православных христиан разграблены, православные монахини, девушки и женщины из православных семей разделили участь рабынь. Затем наступил черед Святой Горы Афон, которая была передана в юрисдикцию Католической Церкви. Более четырехсот повозок со святынями и ценностями отправлены в Рим. Римляне хозяйничали в сердце православного монашества более полувека. Православных епископов принуждали к унии с Католической Церковью, которая, в конце концов, была заключена в 1274 году.
На Руси о «подвигах» крестоносцев было известно, а колонизация прибалтийских земель шведами и немецкими рыцарями оставила в памяти народной рассказы о чудовищной жестокости, с какой «просвещенные» европейцы обращали в католичество местное население завоеванных земель. После Батыева нашествия, обескровившего Русь, шведы приступили к организации «крестового» похода против «схизматиков». Святой Александр Невский оказался перед лицом консолидированной мощи католического Запада. Победы на Неве и Чудском озере отрезвили новоявленных «крестоносцев», но Александру Ярославину во все время своего княжения приходилось «держать порох сухим» и не раз принимать бой с западными агрессорами за свои земли. Поэтому он не последовал примеру некоторых русских князей, однозначно державшихся прозападной ориентации, а избрал свой путь – хранения веры православной и родной земли от западных агрессоров. Этот выбор чеканными строками отлился на страницах летописей в ответе святого Александра папским легатам, приехавшим в Новгород склонять его к союзу с Римским престолом: «Слышите, посланницы папежстии и прелестницы преокаянные! От Адама и до потопа, и от потопа до разделения язык, и от разделения язык до начала Авраамля, и от Авраамля до приития Израилева сквозь Чермное море, а от начала царства Соломона до Августа царя, а от начала Августа до Рождества Христова, и до страсти и до воскресения Его, а от воскресения Его и на небеса вшествия и до царствия Великого Константина и до первого собора и до седьмого собора: сия вся сведаем добре, а от вас учения не принимаем!»[6].

Г. Семирадский. Александр Невский принимает папских легатов
Это и есть главный подвиг святого Ярославича, это и есть та святая минута, когда решилась судьба России у Престола Божия: взамен шаткой надежды на папскую помощь Россия за верность свою истинной вере обрела Союзника и Помощника, Который сильнее и могущественнее всех земных владык, Который никогда не отступит, никогда не изменит, никогда не отнимет Своей благословляющей десницы, доколе мы сами не нарушим священной клятвы Александра.
А с монголо-татарами пришлось вести длительную и изнурительную дипломатическую борьбу за смягчение требований, которые великий хан Менгу-Тимур и золотоордынский хан Берке предъявили великому князю Владимирскому. Оба хана были сторонниками установления жесткого режима управления завоеванной территорией. О том, какие требования предъявили ханы, летописи ничего не сообщают, но, судя по тому, что переговоры эти тянулись в течение четырех лет, с 1253 по 1257 год, Александру Ярославичу пришлось нелегко. Результатом переговоров было установление размеров налогов и пошлин, для чего понадобилась подушная перепись населения. Причем непременным условием завоевателей было включение в перепись и населения Новгорода, который не был завоеван Бату-ханом. Насколько сумел Александр Ярославич смягчить требования ханов, мы не знаем, но в том, что дипломатическая борьба была острой, сомневаться не приходится. Каждая новая уступка хана требовала больших трудов и, добавим, огромных средств, но Александр Ярославич не щадил ни себя, ни казны. Он воодушевлен был одним стремлением, одной целью – не допустить полного порабощения Руси, расселения по ее территории завоевателей, разрушения всех устоев народной жизни и государственного правления.
Дань, которой подушно было обложено все население, – так называемый ордынский выход – была тяжела и не оставляла никакой возможности для развития хозяйства, а подчас и просто для выживания. По расчетам некоторых современных историков, предельная плата, которую мог получить работник за год, составляла 1 рубль («рубленая» половина серебряной гривны весом 154 г), а ордынский выход взимался в размере от полтины до двух рублей с человека. Кроме того, были и другие повинности: ямская, содержание ханских послов, торговый сбор и т. д. – всего 13 видов[7]. Поначалу дань собирали специальные чиновники – баскаки, но вскоре монголо-татарские завоеватели почли за благо поручить это русским князьям, так как начались стихийные восстания обираемого баскаками населения. Завоевателям это было и удобно, и выгодно, но для простых людей это обернулось повышением налогов – князья никогда не забывали своих интересов.
Орудием политического контроля над завоеванной территорией служила установившаяся практика получения в Орде ярлыков на княжение. Выдача ярлыков стала еще и средством сохранения разобщенности русских князей. На Руси утвердилась позорная практика доносительства и подкупа, которые поощрялись завоевателями и вполне вписывались в их модель управления завоеванными народами и территориями по принципу: разделяй и властвуй. Не к чести русских князей будь сказано, большинство из них очень скоро проторили дорогу в Орду и не скупились ни на наветы на соперников, ни на подарки ханским чиновникам и самим ханам. Это препятствовало объединению сил русских княжеств для борьбы с завоевателями и еще больше увеличивало экономический гнет на население. Нередко сами князья «наводили» на Русь татарские рати, приглашая их на помощь в своих междоусобных войнах.
Средством удержания народных масс в повиновении был все тот же страх, который сковывал и испепелял душу, лишал ее надежды на будущее, истреблял все лучшее, что было в человеке. Страх и рабская покорность судьбе, ослабление веры, разрозненность, снижение нравственно-этических норм в отношениях между людьми – это был невещественный, но реально ощущаемый итог установившегося ига. Целое поколение людей, переживших Батыево нашествие, а затем и следующее за ним были морально изувечены этим страхом и беспросветным унынием. Душа народная была тяжело больна, и требовалось поистине Божественное врачество, чтобы ее исцелить.
В этом беспросветном мраке присутствовал с виду малый, но на поверку оказавшийся самым важным и самым главным фактором в дальнейшей русской истории просвет. В идеологическом устроении Монгольской империи одним из коренных принципов была широкая веротерпимость. Непременное уважение к чужой вере и строгое наказание за оскорбление чувств верующих были прописаны в основном законе империи, написанном Чингисханом, – «Великой Лесе». Церковь русская пользовалась широкими правами и даже была освобождена от поборов. Церковь звала к покаянию и исправлению жизни, собирала вокруг себя Русь и трудилась ради будущего ее освобождения. Одним из первых к покаянию и исправлению жизни стал призывать монах Киево-Печерского монастыря, а впоследствии епископ Суздальский и Нижегородский Серапион. «Кто же нас до этого довел?» – восклицал владыка Серапион. И с горечью перечислял грехи, которыми болел русский народ: ложь, клевета, грабежи, разбои, сквернословие, прелюбодейство, зависть, злоба, ненависть, жадность, лихоимство, неправедные суды, ростовщичество и проч. А противоядием от этой смертельной болезни может быть только любовь, заповеданная Богом: «Владыки нашего самая важная заповедь – любите друг друга, милость имейте ко всякому человеку, любите ближнего как самого себя…. Всегда пребывая в любви, спокойно мы заживем». Сто лет звучали эти призывы со всех амвонов, пока в радонежские леса для уединенного подвига служения Богу всей своей жизнью не пришел юноша Варфоломей, который вскоре стал иноком Сергием…