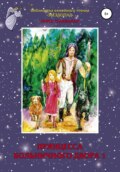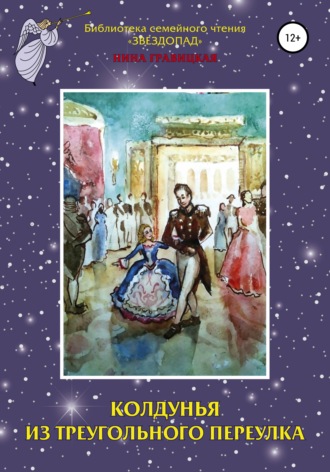
Нина Гравицкая
Колдунья из Треугольного переулка
Глава 2. Отец и дочь
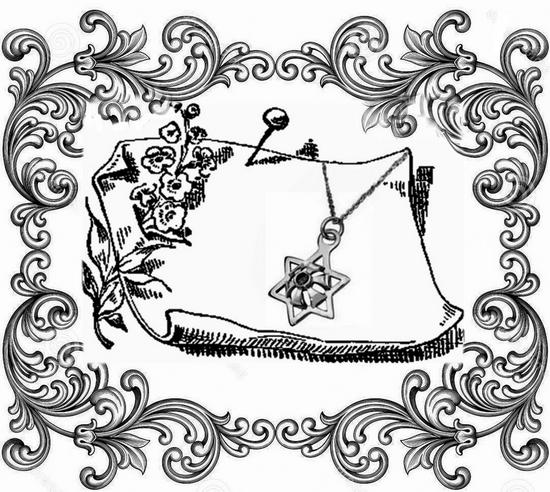
Анна не спеша шла по направлению к Треугольному переулку, наслаждаясь свежестью раннего утра и приятным чувством беззаботности: по еврейскому календарю сегодня был первый день Нового года, и молодая женщина думала о том, что отныне у них с дочкой начнётся новая счастливая жизнь, ведь недаром же говорят, что Рош ха-Шана[6] знаменует собой начало новой жизни.
Дом банкира Гуровича находился относительно недалеко от их больницы, и Анна рассчитывала, что управится ещё до того, как проснётся дочка. Она представляла себе, сколько радости принесёт Мане неожиданное известие и её материнское сердце трепетало от радости: ведь её бедная девочка даже мечтать не могла о том, что сможет учиться в лучшем учебном заведении Одессы! Кто же он, этот их неизвестный и великодушный благодетель? И удобно ли будет в качестве благодарности вручить ему свои нехитрые гостинцы? Анна прижимала к груди свёрток с ещё тёплым маковым штруделем, от которого исходил аппетитный аромат свежеиспеченной выпечки, и сомнения одолевали её душу: не обидит ли господина Гуровича её подарок?

Для неё самой он был бесценным, ведь это было единственное, что осталось от её прошлого, но достаточно ли он будет хорош в качестве благодарности за столь щедрое благодеяние? Медальон с цепочкой, который Анна заботливо завернула в холщовую тряпицу и положила рядом со штруделем, хоть и был золотым, но всё же, далеко не новым. Погружённая в свои мысли, молодая женщина не заметила, как дошла до нужной ей улицы и в недоумении остановилась перед домом №3, не ожидая увидеть такой скромный и ничем не примечательный дом.
– Странный он всё-таки человек, этот Гурович, – подумала она, разглядывая дом. – Богатый, а живёт бедно. Делает чужим людям дорогие подарки, а сам не может себе приличный дом купить. Постояв некоторое время в нерешительности, Анна робко постучалась. Дверь приоткрылась, и из неё вначале показалась морда здоровенного чёрного кота, а за ним в приоткрытую щёлку выглянуло недовольное лицо старой женщины.
– Ты кто? – подозрительно глядя на Анну, – хмуро спросило лицо.
– Здравствуйте, – поклонилась Анна. – Я бы хотела увидеть господина Гуровича. – А зачем? – с неодобрением переспросила женщина. – Господин Гурович человек занятой, некогда им разговоры водить с кем попало. – Простите, – потупилась Анна, – в таком случае, не будете ли вы так любезны, и не передадите ли господину Гуровичу вот это, – и она протянула старухе свой узелок. – Это в знак благодарности, – пояснила она, – скажите, что это от той девочки, которую он изволил облагодетельствовать, он поймёт. – Ладно, – смягчилась старуха. – Постой здесь, а я пойду, доложу. Захлопнув дверь перед носом Анны, она поднялась наверх и постучала в кабинет хозяина. Несмотря на ранний час, банкир уже был на ногах, и работал, обложившись со всех сторон счетами и документами. – Барин, – несмело окликнула его женщина. – Чего тебе, Стефа? – недовольно спросил банкир, неохотно оторвавшись от своих бумаг. – Сколько раз тебе нужно повторять, что, когда я работаю, меня не беспокоить! Неужели не понятно? – Понятно, барин, как не понять, – согласно кивнула та. – Только там женщина одна пришла, говорит, хочет вас поблагодарить за свою дочь.

– Какую дочь? – недовольно нахмурился банкир. – Ах, да, – вспомнил он, – скажи, что я не могу её принять, занят. Слушаюсь, – с обожанием глядя на хозяина, ответила старуха. Много лет назад он нашёл её на кладбище, куда любил приходить в редкие часы досуга. Посещая чужие могилы, он думал о покойных дочери и жене, разговаривал с ними и молился. После таких посещений непреходящая сердечная боль на время отступала, а измученная душа испытывала некое облегчение. Как-то раз, возвращаясь с кладбища, он обратил внимание на истощённую пожилую женщину, стоящую рядом с нищими, обсевшими центральную аллею от входа до самой церкви. Женщина была одета во всё чёрное, она не протягивала руки, как остальные, прося милостыню, но её скорбное лицо было полно такой муки, что банкир невольно остановился. – Как тебя зовут? – спросил он женщину. – Стефой кличут, барин, – тихо ответила та, опустив голову. – А где ты живёшь? – Здесь, – смущённо потупилась она, – на кладбище. – Как здесь? – не понял Гурович. – Где же ты спишь? Женщина не ответила и только молча закрыла лицо руками. – Да бездомная она, – охотно пояснила её соседка. – Спит в старом склепе. Помирает с голодухи, а просить не хочет. Гордая, видите ли, – с неодобрением покосилась она на неё.

– Где ж семья-то твоя? – с жалостью глядя на женщину, спросил банкир. – А нету у неё семьи, – опять вместо женщины ответила её словоохотливая соседка. – Когда был жив сын, она хорошо жила, ни в чём не нуждалась. А как сын помер, невестка её и выгнала из дома. А она, дура, и ушла молчком: стыдно ей, видите ли, перед людьми жену сына позорить. Отошёл банкир в сторону, постоял минуту-другую, подумал, а затем вернулся и, подойдя к женщине, спросил: – А пошла бы ты, Стефа, ко мне служить? Мне как раз кухарка нужна. Женщина помолчала немного, не веря своим ушам, затем всё так же тихо ответила: – Чего ж не пойти, пойду, коли не шутите. – Не шучу, – серьёзно ответил тот, – собирай свои вещи. – Так нет у меня никаких вещей, – растерянно развела руками женщина. Разве вот только это, – и она показала на свои колени. Там, свернувшись клубочком, спал маленький чёрный котёнок. – Его что – тоже выгнали? – улыбнулся Гурович. – Нет, как раз наоборот, – оживилось лицо женщины. – Его нарочно закрыли, чтоб он за мной не подался, а он через несколько дней всё равно сбёг. Как он меня здесь нашёл – ума не приложу. Можно мне будет его взять? – робко попросила она.
– Что ж делать, возьмём, – ответил, улыбаясь, банкир. – Говорят, коты в дом счастье приносят.
Так Стефа поселилась в доме в Треугольном переулке, и Гурович ни разу об этом не пожалел. Она не только готовила ему, убирала и стирала, но и заботилась о нём, как о своём сыне. Женщина поняла, что строгость барина чисто показная, что на самом деле он добрый, сердечный человек, и нисколько его не боялась.
– Да, – вспомнила старуха, вернувшись. – Вот, просили вам передать, – и положила на стол свёрток. – Что это? – подозрительно глядя на свёрток, спросил банкир. – Не знаю, барин, так я пойду, женщину эту отправлю, – сказала Стефа и стала спускаться вниз.
Гурович развязал платочек и увидел завёрнутый в него штрудель. Несколько секунд он с крайним удивлением смотрел на белые звёздочки, украшавшие его румяные бока, затем грустно улыбнулся:
– Ага, душенька, не одна ты мастерица была пироги такие печь, – подумал он.
Заметив рядом с пирогом ещё какой-то предмет, завёрнутый в чистую белую тряпочку, он с любопытством развернул его и тотчас же изменился в лице. Горло его перехватило, будто удавкой. Он хотел крикнуть, но не смог произнести ни слова.
Перед ним лежал медальон, который он подарил своей дочери на её двенадцатилетние – день, когда, согласно еврейской традиции, девочка становится взрослой. Считается, что с этого времени она сама несёт ответственность перед богом за все свои действия и в каждой еврейской семье этот день считается большим событием, как для девочки, так и для её родителей. В тот день Йосиф Гурович накрыл стол в синагоге, и веселился со своими гостями от всего сердца.

Жадно вглядываясь в медальон, банкир поднёс его к самым глазам. Ошибки быть не могло: в цепочке был заметен маленький изъян. Два её звена были соединены между собой тоненькой жёлтой проволочкой. Он сам скрепил ею порвавшиеся звенья, когда дочка зацепилась за ветку дерева и порвала цепочку.
Задыхаясь, Гурович разорвал ворот рубашки и, глубоко вздохнув, прохрипел:
– Стефа!
Почувствовав по голосу хозяина, что случилось что-то неладное, верная служанка стремглав бросилась к нему назад в кабинет. Увидев, в каком состоянии банкир, она всплеснула руками:
– Серденько мое, шо сталося?
Гурович, у которого опять перехватило дыхание, молча махнул на дверь. Затем еле-еле выдавил из себя:
– Верни!.. Женщину эту… верни!
– Сейчас-сейчас, сынок, – засуетилась старушка. – Я мигом, – и помчалась стрелой вниз по лестнице.
Догнала она Анну уже на другой улице.
– Вертайся скорее, барин тебя кличет, – запыхавшись, крикнула она ей издали.
Анна послушно повернула назад и вслед за служанкой вошла в дом. Молодая женщина отметила, что обстановка в доме хоть и скромная, но качественная, а мебель сделана из дорогого красного дерева. В доме царили чистота и порядок. Они поднялись по дубовой, отполированной до блеска лестнице на второй этаж, и остановились возле высокой двери, украшенной резным деревянным рисунком.
– Ну, заходь, – подтолкнула женщину служанка.
Но Анна будто приросла к полу. Ноги не хотели её слушаться, а сердце вдруг забилось так стремительно, будто готово было выскочить из груди.
– Вот глупая, – пристыдила она себя, собираясь с духом.
Но тут дверь сама распахнулась, и она услышала с порога, то ли стон, то ли крик:
– Боже мой, Анна!
И тут произошло то, что ей обещал доктор Капилло:
– Не отчаивайтесь, Анна, – сказал он ей однажды. – Память может вернуться к вам так же неожиданно, как и исчезла.

Ещё не поднимая головы, Анна уже знала, что перед ней стоит её отец.
В одну секунду вся её жизнь пронеслась перед глазами, и она вспомнила её всю до мельчайших подробностей. Она отчётливо увидела себя красиво одетой маленькой девочкой, которая, стоя за праздничным столом, повторяет за своими родителями субботнюю молитву:
– Благословен ты, Господь, Бог наш, владыка Вселенной, по воле которого существует всё!
Потом перед ней возник образ матери, зажигающей, как всегда, в одно и то же время (за двадцать минут до захода солнца не раньше и не позже) субботние свечи, а она сама, прикрывая по традиции глаза руками, подходит к отцу под благословение.
– Да благословит тебя Господь, и охранит тебя. И будет к тебе благосклонен. И помилует тебя. И пошлёт тебе мир! – торжественно говорит отец, возлагая обе руки на её голову. А вот мать, завернув её после купания в большое полотенце, укладывает в кроватку и целует в лоб.
Вот другая картинка: строгая госпожа Бетя, её учительница по музыке, в который раз заставляет её переигрывать гаммы, а она с нетерпением смотрит в окно, где её дожидаются соседские дети, сёстры Гарковенко, чтобы вместе идти на море.
А вот…, сердце Анны почти замерло, вот её Николай, гневно спорящий с раввином, который отказался сочетать их законным браком по закону Торы, на чём настаивала Анна:
– Да, Бог дал именно вам, евреям, Закон, – отчётливо услышала она дорогой для себя голос, – но не для того же, чтобы вы запрятали его в своём ковчеге, а для того, чтобы вы оповестили о нём всему миру! Неужели вы не понимаете, что только у дикого первобытного племени может быть свой, личный божок. А истинный бог, он один на всех, мы все его дети! И если я – человек, верующий в единого Бога, Творца Вселенной, то почему я не могу сочетаться браком с девушкой, которую люблю больше жизни только потому, что родился русским, а не евреем?!
– Аннушка… Девочка моя! Не может этого быть! – не веря своим глазам и задыхаясь от радости, банкир бросился к дочери. Но та сделала шаг назад и, как оружие, выставила перед собой руку.

– Где мама? – глухо спросила Анна, и сама не узнала своего голоса.
Йосиф Гурович опустил голову.
– Мамы больше нет, дочка.
Острая боль пронзила голову, ослепила. Пошатываясь, с трудом удерживая равновесие, Анна повернулась и пошла к выходу.
– Куда же ты! Постой, Анна!
– Прощайте, сударь, – не поворачивая головы, тихо ответила женщина.
– Аннушка, дочка, ты не можешь так уйти! Ведь я твой отец! – с отчаянием крикнул ей вслед Гурович, беспомощно протягивая к ней руки.
Анна молча открыла дверь, спотыкаясь и едва удерживая равновесие, спустилась по лестнице, и вышла на улицу. Там силы совсем оставили её и, облокотившись о стену дома, она сползла вниз на землю, обхватила голову двумя руками и тихо завыла:
– А-а-а!
Дверь неожиданно открылась, и на порог выскочила Стефа.
– А ну, вертайся назад, – сердито крикнула она ей. – Это что ж такое – с родным отцом такие разговоры разговаривать! Где это видано! Вертайся, тебе говорят!
Но Анна только отрицательно качнула головой. Она чувствовала, что ещё немного, и она лишится чувств.
– Ах, ты ж бессовестная-пребессовестная, – взяв руки в боки, стала стыдить её старушка. – Другая бы, молилась на такого отца, он ведь у тебя святой человек! А эта… – с негодованием взглянула она на неё, от возмущения не в силах продолжить фразу.
– Как вы сказали? – переспросила Анна, отнимая руки от лица. – Святой? Она минуту недоумённо смотрела на старушку широко открытыми глазами, и вдруг дикий смех сотряс всё её тело.
– Святой! Святой! – повторяла она, как безумная, корчась от смеха, в то время как слёзы заливали ей лицо.
– Да что же это такое деется? – растерянно запричитала бедная женщина. – Что же это такое деется, скажите мне, пожалуйста? Подойдя к Анне, она опустилась рядом с ней на землю и, обняв, заплакала сама.
– Ну, что ты, дитятко? Господь с тобой, зачем же так убиваться? Дай бог, всё образуется, – нашёптывала она ей на ухо, гладя по голове.
Простые ласковые слова успокаивающе подействовали на несчастную. Она поднялась и, помогая встать старушке, устало сказала:
– Этот святой, бабушка, разрушил всю мою жизнь. Лишил мужа, отправил на тот свет мою мать, оставил сиротой мою дочь. Он выбросил меня на улицу, в чём я стояла, и если я сейчас жива, то это только благодаря божьей милости и доброте чужих людей. Вот так.
– Не верю, – твёрдо отрезала преданная старушка. – Ни одному твоему слову не верю!
– Не верите, так спросите у своего хозяина! – гневно сверкнула глазами Анна и, развернувшись, побежала прочь.
– А-я-я-яй, – заголосила старая Стефа, схватившись за голову. – И что же это такое деется, я вас спрашиваю?
Глава 3. Исчезновение Мани

Анна не помнила, как добралась домой. Рыдания душили её, а пробудившиеся воспоминания жгли душу. Картины прошлого, одна страшнее другой, вставали перед её глазами: отъезд Николеньки и жгучая боль от разлуки с мужем, запах ладана и скорбные лики на иконах в свете свечей. Николай настоял на том, чтобы их любовь всё же получила божье благословение и после отказа раввина узаконить их брак, повёл любимую под венец в православный храм. Батюшка совершил над ней обряд крещения, и они венчались в маленькой местной церкви, где Николенька надел ей на палец золотое колечко с трогательным изображением голубя и голубки, удерживающих в своих клювиках колосок. Перед самым отъездом мужа Анна узнала, что у них будет ребёнок, и это изображение стало символичным.
– Аннушка, – попросил Николай. – Давай, если у нас родится девочка, назовём её Марией, в честь моей матери. Она у меня замечательная, и это имя принесёт ребёнку счастье. Так они расстались, договорившись о том, что в первый же его приезд домой они сообщат родителям о своём браке.
Потянулись долгие дни разлуки. Анна тосковала по мужу, беспокоилась о его судьбе и с трепетом прислушивалась к зарождающейся в своём теле новой жизни. Молодая женщина вспомнила, каким злобным и торжествующим было лицо её отца, когда он сообщил ей трагическую весть: Николенька, её муж и отец её будущего ребёнка, погиб в сражении, и уже никогда-никогда им не быть вместе! Мир рухнул в одночасье, ведь она потеряла не только мужа, но и своего отца, которого раньше любила и почитала: человек, бросивший ей в лицо страшное известие с радостной усмешкой на губах, не мог быть её отцом. Она бросилась из дома, осыпаемая его проклятиями, с разбитым лицом и, не разбирая дороги, побрела, куда глаза глядят. Ноги едва слушались её, голова кружилась, перед глазами плыли огненные круги, и в какой-то момент, потеряв сознание, она упала навзничь прямо на мостовую. Что было с ней потом, она не помнила. Ни как её подобрали мортусы[7], ни как, приняв за покойницу, погрузили на телегу поверх груды мёртвых тел и повезли на окраину города, где для жертв чёрной смерти* была вырыта большая общая могила. Эпидемия чумы в 1812 году охватила весь юг России, в том числе и город Николаев, где жила семья Анны.

Трупы погибших людей сбрасывали прямо в яму, а затем сжигали. Очнулась Анна, когда огонь стал лизать всё её тело. Обезумев от боли, она с трудом выбралась из ямы и всю ночь брела по дороге, утратив ощущение реальности того, что происходило с нею. Она не ощущала даже боли, хотя всё её тело было в страшных ожогах, и когда её родители решили, что она умерла, это в какой-то мере так и было: умерли её чувства, желания, не стало даже памяти о прежней жизни. Прежней Анны не стало, а та, что осталась, закрыла своё сознание для воспоминаний.
При входе на территорию больницы молодая женщина столкнулась с доктором Капилло, который нервно прохаживался перед воротами. Заметив Анну, он стремглав бросился к ней. Доктор был так сильно взволнован, что даже не заметил слёз на ее лице.
– Ах, Анна! – вскричал он, взяв её за руку. – Я так вас ждал! Представьте, Лиза сбежала!
– Как сбежала? Зачем? – с недоумением взглянула на него Анна. – Какое несчастье!
– Да что вы, Анна, какое же это несчастье? – горячо перебил её доктор. – Как вы не понимаете, ведь теперь я свободен! Я полностью свободен, и имею право сказать вам, что я люблю вас, Анна, что полюбил вас с самого первого взгляда, как только увидел! О, Анна! Если бы вы знали, как я счастлив, что, наконец, могу открыть вам своё сердце!
Анна мягко отстранила его руку, и доктор только сейчас заметил страдальческое выражение на её осунувшемся заплаканном лице.
– Что случилось с вами, милая Анна? Почему вы плачете? – с тревогой спросил он.
– Ах, Аркадий Константинович, – вздохнула женщина, и глубокая печаль отразилась на её лице. – Если бы то, что я сейчас услышала, вы сказали мне ещё сегодня утром, поверьте, не было бы на свете женщины, счастливей меня. Но сейчас… сейчас…, – и она горько заплакала, закрыв лицо руками.
– Что такого могло случиться за это утро, чтобы ваше отношение ко мне изменилось, милая Анна? – с отчаянием воскликнул доктор. – Где вы были?
– У банкира Гуровича.
– Он что – отказал вам?! Не может этого быть, он ведь человек слова
– Гурович мой отец, – тихо сказала Анна. Доктор изумлённо уставился на женщину.
– Кто? Гурович?! – переспросил он, думая, что ослышался, но тут догадка озарила его лицо:
– Вы всё вспомнили, Анна… К вам вернулась память! Но ведь это же, замечательно, я так рад за вас!
– Мой муж погиб, моя мама умерла, – тихо сказала женщина. – Как видите, радоваться нечему.
– Но… – растерялся доктор, – это же, случилось много лет назад! Это прошлое, а жить нужно настоящим! – Для меня это случилось сегодня, – опустила голову Анна, – простите. Доктор смотрел вслед удаляющейся женщине, и отчаяние переполняло его сердце: Анна опять отдалялась от него.
Подходя к дому, молодая женщина не старалась скрыть следы своих слёз: сегодня они с дочкой потеряли самых близких им людей, и оплакивать их они должны вместе. Возле их дома на скамейке с понурым и растерянным видом сидел незнакомый мальчуган.
– Ты к кому? – подойдя, окликнула его Анна.
– Здравствуйте, – мальчик бросил на неё растерянный взгляд из-под пушистых ресниц. – Я жду одну знакомую девочку, её зовут Маня.
– Маню? – удивилась Анна. – Так это моя дочка, и зачем она тебе? Я тебя раньше у нас никогда не видела, как тебя зовут?
– Володя Гурьев, – поднявшись со скамейки, вежливо представился мальчик. – Хотя…, – замялся он, – если верить Мане, я не совсем Гурьев, и мне бы хотелось расспросить ее об этом подробнее. А вы – тётя Анна? Манина мама? – предположил он. – Я почему-то вас такой и представлял…
– Какой такой? – спросила Анна, невольно любуясь миловидным лицом мальчугана, обрамлённого светлыми, слегка вьющимися волосами.

– Красивой… – смущённо пояснил Володя, и его лицо озарилось робкой улыбкой. – О вас Лёня Капилло рассказывал.
– А, Лёнечка… – с теплотой улыбнулась женщина, – он мне, как сын, я его знаю с рождения, и очень люблю. А ты откуда его знаешь?
– Мы учимся вместе, – уклончиво объяснил мальчик и потупил глаза, вспомнив, как перед всем классом оскорбил мать Мани, а Лёня Капилло вступился за неё.
«Какой симпатичный ребёнок, – между тем думала Анна, с улыбкой разглядывая маленького гостя, – только грустный какой-то. Видно, и у него тоже горе» – вздохнула она про себя. Откуда ей было знать, что этот «симпатичный ребёнок» был печально известен своим несносным характером, дерзил взрослым, постоянно обижал других детей, и что её собственная дочь часто плакала от его насмешек и издёвок. Лицо Володи Гурьева, всегда такоё надменное и высокомерное, выглядело сейчас поникшим и жалким.
– Чего ж ты тут сидишь один, в дом к нам не заходишь? – приветливо спросила его Анна.
– Так ведь там никого нет, – пожал он плечами.
– Как это нет? – удивилась Анна и переступила порог. На столе на салфетке нетронутыми лежали её штрудели с маком.
– Странно, – с недоумением уставилась на них женщина, – действительно, нет… А ты давно здесь? – обернулась она к ребенку.
– Давно, – вздохнул мальчик.
– Так тебе нужно было к соседке нашей зайти, тёте Дусе, Маня, наверное, там. Пойдём, глянем. – предложила она.
– Ей наша соседка кофточку вяжет, пошла, наверное, на примерку. Но Евдокии дома тоже не оказалось. Вдвоем они обошли флигель вокруг, и Анна заметила под деревом таз с мокрым бельём. Она вспомнила, что накануне вечером велела Мане развесить утром постиранное бельё, и растерянно развела руками.
– Зачем она бельё тут оставила?
– Может, она к кому-то другому пошла? – предположил мальчик, и они направились к соседнему дому. Из окна выглянула смуглая девочка и с любопытством стрельнула в Володю чёрными глазами.
– Тётя Анна, вы к нам?
– Тамася, ты Маню не видела? – вместо ответа спросила Анна.
– Не-а, – покачала головой девочка. – А её что – дома нет?
– Нет, – растерянно подтвердила женщина. – Ты спроси у своих братьев, – попросила она, – может, они её, где видели?
– Сеня! Женя! Илюша! – обернувшись, крикнула Тамара вглубь комнаты, – вы Маню не видели? В окне тут же показались улыбающиеся рожицы трёх Тамариных братьев.
– Нет, не видели, – радостно сообщили они. – А вы у Гриши спросите, может, она к нему пошла? – посоветовали они.
Тамася стремглав выскочила за ними во двор.
– И я с вами, тетя Анна, – попросилась она. Тамара была красивой караимской девочкой с длинными чёрными, как смоль волосами, и озорными, по-восточному удлинёнными миндалевидными глазками. Её тётя, после смерти своего брата взявшая содержание всей его большой семьи на себя, была превосходной портнихой и наряжала девочку во всё белое, за что во дворе её прозвали «муха в сметане». Белые платьица выгодно оттеняли смуглое личико девочки и блестящие, аккуратно заплетённые чёрные косы. Все события, которые происходили во дворе, Тамара принимала близко к сердцу и активно в них участвовала.
Гриши дома не оказалось, а его мать, госпожа Вальтер, сообщила им, что он полчаса, как ушёл с Амалией Карповной на базар за рыбой.
– Но Маню, мы сегодня не видели, – уверила она их.
– А вам Джульетта случайно не попадалась? – в свою очередь озабоченно спросила она Анну. – Представляете, взяла себе моду гулять сама по себе: захотела – пришла, захотела – ушла, – с осуждением заметила она. – Как какая-то уличная собака, просто позор, честное слово. Анна молча покачала головой.
– Дождётся, что мы её вообще больше одну отпускать не будем, – громко пригрозила госпожа Вальтер, будто непослушная Джульетта была где-то рядом и могла слышать её угрозы.
– А вы зайдите в больницу, – посоветовала она, – может, Маня к Якову забежала?
– Дяди Якова нет в больнице, сегодня ведь Рош ха-Шана, – напомнила Анна. – Он с утра ушёл в синагогу.
– Ой, извините, я и забыла! С Новым годом вас, Анна, – поспешила поздравить её госпожа Вальтер. Население больничного двора представляло собой смесь различных национальностей и, соответственно, вероисповеданий: здесь жили поляки, немцы, евреи, молдаване, караимы, греки, русские и украинцы. Праздник для одних был праздником для всех, потому что в этот день принято было приглашать соседей, и во дворе праздники плавно переходили один в другой.
– Слушайте, а чего мы тут гадаем? – встрепенулась вдруг Тамара. – Маня, скорее всего, в лицей побежала, Лёнчика проведать. Не было её сегодня, – хмуро возразил Володя, – я только что оттуда.
Все помолчали. Анна не на шутку забеспокоилась. Девочка у неё, конечно, самостоятельная, но не могла же, она взять и, не спросившись, уйти из дома, зная, что сегодня праздник, который следовало проводить в кругу семьи!
– Знаете что, – опять вмешалась жена аптекаря, – а может, она ушла с Яковом Натанзоном в синагогу? Все выжидающе уставились на Анну, и та с облегчением вздохнула: ну, конечно же, как ей это сразу не пришло в голову! Конечно же, в синагогу!
– Спасибо, что вы мне это подсказали, уважаемая госпожа Вальтер, – сердечно поблагодарила её Анна – мне и самой следовало бы об этом догадаться, а то я уже начала беспокоиться. Мы с Володей пойдём домой, а вы, если увидите Маню, передайте ей, что дома её ждут, пусть нигде не задерживается.
– Всенепременно, – заверила её жена аптекаря – не беспокойтесь, обязательно скажу.

– А я побегу поищу Джульетту, – предложила Тамара и умчалась в сторону сарая, где был захоронен дворовой пёс Ромео, и где обычно проводила своё время тоскующая о погибшем друге Джульетта.
Войдя в дом, Володя с любопытством огляделся. Убогая обстановка дома вначале поразила его, ему ещё никогда не приходилось бывать в таком бедном жилище, но почему-то здесь ему всё нравилось. В комнате было уютно и чем-то приятно пахло. На столе, кроме маковых пирогов, в тарелке лежали нарезанные дольками яблоки и мёд в вазочке.
– У вас очень чисто, – вежливо заметил мальчик.
– А как же иначе, – с достоинством ответила женщина, – ведь сегодня Рош ха-Шана, еврейский Новый год, начало новой жизни*. Чтобы она была светлой и чистой, положено хорошо прибраться в доме, такая у нас традиция. Ты садись, – пригласила она его, – а я угощу тебя своим маковым штруделем. Говорят, – с гордостью добавила она и просияла улыбкой, – что он у меня получается отменным. Володя не стал отказываться и с удовольствием отправил в рот кусок благоухающей сдобы.

– О! А вы знаете и, правда, очень вкусно, – с видом знатока похвалил он и задержал взгляд на лице женщины, на котором отчетливо проступали следы слёз. – А почему вы плакали, тётя Анна? Вас кто-нибудь обидел?
– Обидел, – вздохнула Анна и опустила голову, – и как ты думаешь – кто? Мой собственный отец. Правда, это случилось давно, но так уж получилось, что вспомнила я об этом только сегодня. Они помолчали.
– А ты знаешь, – неожиданно спросила она, – какой именно сегодня день?
– Вы же уже говорили, Новый год, – вежливо напомнил мальчик. – Только ведь его отмечают зимой, – заметил он.
– А у евреев – сегодня, – пояснила Анна, – мы ведем своё летоисчисление со дня основания мира. В этот день[8] нельзя ни в коем случае ни с кем ссориться. А я…, – и она опустила голову, вспомнив умаляющее лицо своего отца и его протянутые к ней руки, – я очень обидела своего отца. Он, конечно, очень виноват передо мною, – помолчав, добавила она, – но ведь он мой отец… Тем более, что из родных у меня никого больше нет: только он и Маня.
– Да, я знаю, – неожиданно заметил Володя, – мне Маня говорила, что её отец умер. Анна удивлённо взглянула на него.
– Ты что-то путаешь, она не могла этого знать, я сама об этом вспомнила только сегодня.
– Ничего я не путаю, – возразил мальчик, – она ясно сказала: – Мой отец умер, – подтвердил он.
– Странно, – покачала головой Анна и, услышав скрип входной двери, радостно вскочила со стула. – А вот и наши, слава богу, вернулись.
– А кто тут мои штрудели поедает, – с грозным видом спросил Яков Натанзон, заходя в комнату, – мы так не договаривались!
– А где Маня, дядя Яков? – с удивлением уставилась на него Анна.
– Откуда же я знаю, – в свою очередь удивился фельдшер. – Когда я уходил, она ещё спала.
– Господи! Да что это такое, где же она тогда может быть?! – вскочив, всплеснула руками женщина. Лицо её побледнело до такой степени, что стало белое, будто бумага.
– Чего ты так разнервничалась, дочка, – принялся успокаивать её Яков. – Куда она от нас денется?
– Да как же не нервничать, если с утра её никто нигде не видел, – едва не плакала Анна, губы у неё беспомощно дрожали. – Я надеялась, что она с вами ушла…
– Нигде, говоришь? – задумался Яков и почесал свою бороду. – Так я знаю, где она, – вдруг с уверенностью заявил он.
– И где же? – с надеждой взглянула на него молодая женщина
– Маня – она кто? – спросил фельдшер и многозначительно поднял вверх свой палец, – моя ученица. И, в отличие от некоторых, – бросил он укоряющий взгляд на Анну, – знает, что в первый день Рош ха-Шана положено совершать обряд «ташлих»[9]. Наша Маня законы знает, на море она пошла, – твердо заявил он, – точно вам говорю! Анна облегчённо вздохнула и вдруг почувствовала страшную усталость. Пережитое накануне сильное потрясение совсем надломило её, и она едва держалась на ногах.
– Тётя Анна, – внимательно взглянув на неё, предложил Володя, – давайте я сбегаю на море за Маней, а вы подождите нас здесь.
– Нет-нет, – покачала женщина головой, – я тоже пойду.
– И я с вами, – заявил Яков. Он старался не подавать виду, что тоже волнуется: ведь ребёнок есть ребёнок, даже такой разумный, как Маня, – думал он, – с ним всякое может случиться.
Втроём они пересекли Херсонскую, и почти бегом устремились вниз к порту.
Анна бежала впереди всех, и перед её глазами неотступно маячило призрачное видение в виде самодельной коляски, которую соорудил когда-то для маленькой Мани фельдшер Натанзон из обыкновенного деревянного ящика. Не счесть, сколько раз они с маленьким Лёней тащили эту коляску со спящей в ней Маней до самого моря. И Анна каждый раз боялась, что коляска вот-вот выскочит из рук и помчится вниз. Будто дразнясь и приглашая побегать с ней наперегонки, призрачная коляска катилась впереди сама по себе и Анна, чтобы не отстать, так стремительно мчалась за ней, поднимая вокруг кучу пыли, что Володя и Яков едва поспевали за ней. Постепенно дорога перешла в крутой склон, спускающийся к морю, в нем были вырублены ступеньки, кое-где укрепленные деревянными дощечками. Когда-то этот берег представлял собой практически вертикальный обрыв, нависавший над узкой полоской суши. Затем из-за подземных грунтовых вод и морского прибоя его значительные куски вместе с имеющимися там строениями и деревьями постепенно сползли в море. И море, как гигантская мельница, всего за считанные годы переработало ракушняк сначала в гальку, а затем и в песок. Спускаться вниз не имело смысла – берег был перед ними, как на ладони, и кроме двух рыбаков, вытаскивающих из воды лодку, да собак, гоняющихся друг за дружкой, никого на берегу больше не было.