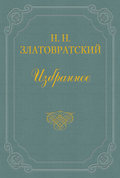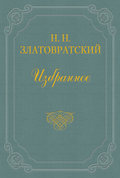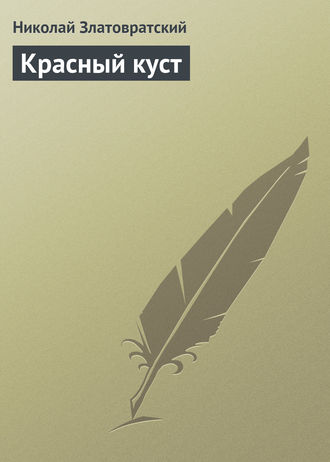
Николай Златовратский
Красный куст
Наблюдения нынешнего лета, как и значительная часть предшествовавших моих наблюдений, относятся к Владимирской губернии, и именно до центральных ее уездов. Признаться сказать, я неравнодушен к этой губернии. Впрочем, не по чувству узкого «землячества» и не по каким-либо особым красотам ее природы или душевным доблестям ее обитателей. Нет, просто по обширности и глубине той сферы, какую она представляет для наблюдений над народной «душой». Меня влечет к себе ее вечно деятельный, вечно подвижной, вечно ищущий «где лучше» сын народа, «этот истый великоросс-колонизатор». Обитатель умеренного климата и умеренной почвы, он избежал крайности поэтически-созерцательной лени малоросса и апатической косности своего северного или белорусского собрата, убитого и приниженного непосильной борьбой со стихийными силами природы и истории. Крайнее разнообразие исторических воздействий, которым подвергался обитатель Центральной России и из которых между тем ни одно не было настолько преобладающим, чтобы наложить свою обезличивающую печать и окончательно подчинить личность своему влиянию, – выработало в этом обитателе известную степень самодеятельности и придало населению этих местностей замечательное разнообразие типов. Здесь вы, сравнительно на небольшом районе, встретите всевозможные типы населений, выработавшиеся под разнообразными историческими воздействиями; здесь целы «барские села», прожившие век под тяжелой «барщиной» – то со смирным, пришибленным и убитым населением, то с буйным, пьяным, воровским; там огромные волости казенных крестьян и оброчных, с преобладающим развитием типа «хозяйственного» мужика, бойкого, здравомыслящего и оборотистого, обходившего из конца в конец всю Россию, побывавшего во всех больших городах, видевшего всю прелесть цивилизации. Не успели вы сделать несколько десятков верст, как уже перед вами фабричные села с разнообразнейшим населением «кустарей», и только перевалитесь вы отсюда за реку, перед вами стоит истый, исконный землепашец, негодующий на заречные «негодные порядки» и распутство. Вот какая обширная область открывается для наблюдения. Несомненно, здесь наблюдение труднее: разобраться в этом разнообразии представляется не легким; но зато здесь перед вами целая коллекция с драгоценными экземплярами, из которых воочию вы можете проследить всю вековую и страдальческую историю народа; вы можете проследить непрерывную цепь исторических наслоений, ибо здесь еще живыми сохранились такие формы социальных отношений, которые вы считали давно вымершими, и на ваших же глазах зарождаются социальные комбинации, о которых вы и не слыхивали еще и возможность которых даже не предполагали. Здесь встретите в одном и том же месте и редкие экземпляры «барской» бабушки Ненилы, глухой и слепой, полузабытой и загнанной на печь, которая неудачи своих упований на барский гнев и барскую любовь изливает в беззубом брюзжанье на «вольные порядки»; здесь же увидите широко распространенный тип всеуповоющей, всеверующей в «правду и милость» новой «пореформенной» бабки Ненилы, которая упорно ждет «поравнений» – «общих переделов», долженствующих неотложно засвидетельствовать собою присутствие на земле «правды»; но уже вместе с этим типом романтика вы замечаете, как быстро нарастает другой тип народных скептиков и позитивистов. Таковы основные типы, резко бросающиеся в глаза; но между ними существует целый ряд второстепенных градаций: индифферентистов, озлобленных, «жадных», вольницы, с одной стороны, и подвижников-ригористов – с другой, и т. п. Можете себе представить, каково должно быть здесь разнообразие социальных бытовых форм! И при всем том нигде так крепко не держатся и не преобладают общинные формы, как здесь. Часто мне приходилось слышать такие соображения: «Напрасно, – говорили мне, – вы выбрали для изучения общинных устоев такое исковерканное, изломанное всевозможными влияниями, разношерстное население кулаков и лодырей всякого рода. Какие там „устои“! Вот если бы вы направили свои наблюдения на север, в лесные недоступные дебри, где, по всем вероятиям, общинный тип уцелел в неприкосновенной чистоте», и т. д… Однако ж я держусь относительно этого иных взглядов. Меня интересуют не столько вымирающие, архаические формы общины (хотя, может быть, они и отличаются первобытной неприкосновенной чистотой), сколько именно «современная» община данной минуты, живая, борющаяся за существование, брошенная в водоворот всевозможных и разнообразных воздействий и влияний. Только здесь, при этом разнообразии центральных великорусских типов, можно по справедливости оценить, насколько общинные традиции упорно держатся в народном сознании, насколько община живуча и до какой степени она эластична и жизненна; только здесь можно проследить весь тот ряд бесчисленных приспособлений и компромиссов, при помощи которых народное творчество силилось и силится удержать при себе излюбленную традиционную форму быта. Но здесь же, одновременно, вы можете проследить и весь процесс ее разложения, и все шансы, способствующие ему…
Вот почему именно здесь я одновременно мог наблюдать факты, о которых расскажу сейчас.
Есть у меня два хороших знакомых: два Елизара – Елизар Нагорный и Елизар Луговой. Они друзья, несмотря ни на то, что значительно разнятся по летам – первому уже шестой десяток в исходе, второму всего еще сорок лет, ни на то, что живут в разных волостях, верстах в 15 друг от друга, а значит, и видеться могут нечасто. Тем не менее на особые специальные деревенские праздники каждый из них считает непременным долгом навестить другого, и непременно с подарком. Откуда, когда и как завязалась их дружба – осталось для меня неизвестно.
Пока я жил у Елизара Нагорного, мне пришлось раза три видеть у него Елизара Лугового, и всегда в праздник. Едва мы засаживались после обедни за самовар, как подъезжала добрая каряя лошадь Елизара Лугового, и мой хозяин, улыбаясь, говорил: «Вон и благоприятель подъехал… как раз кстати! Он меня не забывает». И старику, видимо, было очень приятно посещение Елизара Лугового.
– Здорово, старина! – громко выкрикивал бойкий, разбитной, веселый, всегда чисто одетый, приземистый и коренастый Елизар Луговой.
– Здорово, здорово… Спасибо, не забываешь старика…
– Зачем забыть!.. Сказано – не имей сто рублей, а имей сто друзей…
– Ну, не от вас это слышать… Народ вы не таковский… Вы и отца родного, говорят, подешевле спустите, – добродушно посмеиваясь, говорит мой хозяин, поглаживая свою большую седую бороду.
Нужно заметить, что вообще все беседы свои благоприятели начинали в таком полудобродушно-насмешливом тоне.
– Пожалуй, что и правда… Только мы, брат, умеем продать, да умеем и выкупить… А вот ваши, нагорные, говорят, задаром отдают отцов-то, да и выкупать не хотят, – продолжал отпарировать Елизар Луговой, расстегивая ворот кафтана и присаживаясь к столу.
– Да уж лучше, по-моему, эдак-то, – говорил дед, – а то торговля-то эта больно… того… на душе тяжело ложится… Лучше уж оно задаром-то…
– Ну, это, как смотря… Дела-то как у вас нонче? Как живете?.. Ходят слухи, бойко стали жить…
– Бойко, верно, что бойко… У вас, должно, учиться стали… Такая грызня пошла – не приведи господи!.. Ровно собаки из-за обглоданной кости… Нехорошо бы об крестьянском народе так говорить, да невтерпеж… Правда!.. Правду не спрячешь… Все перегрызлись: деревня деревню грызет, мужик мужика, брат брата… Гляди того, друг друга поедом съедят…
– Ничего, не съедите… Размежевка у вас все?
– Размежевка… Вот она, что ржа, нас и ест… Сказано: замежуетесь и не размежуетесь до конца века… Нет, уж тут рукой махни. Деньжищев этих однех в ямы-то межевые просадили – страсть!.. А в кабаки сколько ушло, в город, землемерам, абвокатам – и несть числа!.. Драк сколько было, смертоубийственных драк… В греха-то греха!.. Только одно – отойти от зла, сократиться… Еще как и живы, – не знаю… Живешь только уж единственно верой, что правда свое возьмет, правда придет. Нельзя быть без правды…
– Ничего, старина, перемелется – мука будет!..– хлопая старика по колену, говорит Елизар Луговой. – Мы, братец, тоже, знаешь, сколько лет грызлись из-за энтих столбов, чуть было не по миру все пошли, а ничего, друг друга не съели, все живы… Подравшись-то, оно после дружнее выходит. А там правду-то еще жди.
– Этого тоже не скажи… Народ-то вы известный!.. Мало ли вы самих себя загубили по судам да кляузам?.. Ваши законы для других не писаны… Вы народ хитрый, оборотистый… из лычка ремешок сделаете… Лодырники… А мы народ старинный, мы искони веков землепашеству да старине были крепки… Нам тянуться за вами нечего. У нас вот тронь порядки-то, все и полезло врозь… Вон до чего дело дошло: говорю, хоть бежать, так в ту же пору… Только бы душу сохранить… В старину-то святее нас жили…
– Эх ты, старина, хочешь во миру душу спасти!.. Ежели душу спасать, так в монастырь шел бы… А то вишь чего захотел!
Елизар Луговой хохотал.
– Ну, да вы ведь… известны нам… Вам что душа-то?.. Вы уж ее давно запродали. Пожалуй, можно и весело жить, коли об душе не думать…
– Поди, старичок, – говорю, – в монастырь… Ежели насчет души – разлюбезное дело, – дразнил Елизар Луговой и продолжал смеяться, подмигивая мне на старика.
– Чего ржешь?.. Ну, чего?.. Христопродавцы вы! Спроси кого хочешь, кто про луговых хорошее слово скажет? Ерники, кулаки…
Друзья начинали ссориться.
И так каждый раз. Елизар Нагорный скорбел, Елизар Луговой разыгрывал роль деревенского Мефистофеля.
Однако это нимало не мешало Елизару Нагорному, тотчас же после чаю и обеда, отправляться со своим приятелем к себе на задворки – в хлев, в риги, в огород, в сад… Он с удовольствием показывал ему свое хозяйство – новую корову или выращенного жеребенка собственного, свою свинью, телок, новую телегу и т. п. Любил он его водить в свой сад, показывал малину, смородину и в особенности хвалился двумя сливами, которые привез ему в подарок Елизар Луговой из поездки в южные губернии, хвалился он ими потому, что Елизар Луговой хотя и подарил их ему, но, по обыкновению скептически посмеиваясь, говорил, что где же ему их выходить! Разве нагорный мужик что знает!.. Что он видал в свой-то век? Кроме корявой сосны ничего не знает! и т. д. Это старика подзадорило, и он ходил за приятельскими сливами с неослабным вниманием.
И опять-таки, хотя друзья прощались у ворот очень любовно, шутя и подтрунивая один над другим, все это не мешало Елизару Нагорному, едва скрывалась за углом плетушка Елизара Лугового, говорить мне, махнув сокрушенно рукой: «Вот мужик – беда!.. Народец, не приведи господи! Отца родного съест… Ему палец в рот не клади!.. Нет, брат, не такой человек… Только перед ним распусти губы-то, и не услышишь, как хвост отгрызет… С ним тоже помолившись за беседу-то садись…»
– А вот ведь ты с ними приятельствуешь?
– Что ж не приятельствовать? Они дело понимают… Они народ дошлый… Мы вот смирны, а за ними тянемся…
И Елизар Нагорный опять заскорбел, заскорбел на свою излюбленную тему, что не стало в миру «правды», что народ сам себя поедом ест и что ежели еще кое-как живешь, то единственно в уповании, что «правда придет и милость придет».