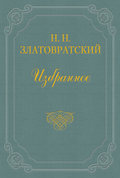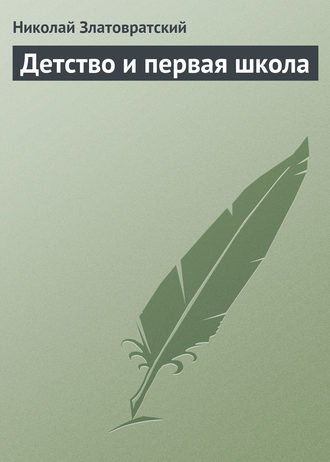
Николай Златовратский
Детство и первая школа
В то время я только что приступал к учению грамоте. По тогдашнему обычаю, матушка вместе с прабабкой купили азбуку и указку и вместе со мною пошли в церковь отслужить молебен пророку Науму («пророк Божий Наум, наставь младенца на ум» – молились тогда); по возвращении, всё с молитвой, сдали меня буквально с рук на руки (так как мне было тогда не больше 6 – 7 лет) учителю, такому же высокому, черноватому и мрачноватому семинаристу, как и мой дядя, который уже ожидал нашего прихода из церкви.
Мой первый учитель, несмотря на его суровый вид и на то, что он был уже «философ» (по семинарии), был очень добродушный человек. Надо полагать, что я в то время был живой и шаловливый мальчик, так как помню, что, прежде чем начать со мной урок, мой учитель должен был предварительно разыскать меня или в саду, или на улице и затем уже с разными ласковыми уговорами нести на руках домой и усадить за азбуку. Кроме впечатления этого неизреченного благодушия, в моих воспоминаниях не осталось ничего более определенного о моем первом учителе. Но, может быть, для того периода моего детства и это было уже большим преимуществом, когда припомнишь, в каких еще невероятно грубейших формах шло в то время воспитание и самого моего учителя и моих сверстников из окружавших нас соседей. Мне уже тогда приходилось от этих сверстников узнавать, как горько многим из них давалась грамота, постоянно сопровождавшаяся драньем вихров, битьем линейкой, грубыми окриками и пороньем розгами и крапивой как со стороны учителей, так и со стороны самих родителей.
В нашем доме благодаря ли случайности, или особому укладу нашей семьи царила в этом отношении несколько иная атмосфера, благодушная в общем и лишь от времени до времени прерывавшаяся какими-то необыкновенно нервными вспышками, когда и отец и мать преисполнялись совершенно необъяснимым озлоблением к себе самим, друг, к другу и к окружающим и устраивали в своем доме на некоторое, впрочем очень непродолжительное, время настоящий ад. Эти периоды, конечно, производили и на меня очень удручающее впечатление, так как и мне в то время приходилось испытывать очень чувствительное «внушение» по таким поводам, за которые при обычном режиме нашей жизни никогда этого не полагалось. А общий режим этой жизни в нашей семье в то время складывался из двух основных элементов – из неизреченного благодушия и религиозности.
Религиозный культ, насколько я могу запомнить, с самых первых дней моей жизни играл довольно большую роль в нашем домашнем укладе. Несмотря на то, что мать и отец были еще очень молоды, но уже и в то время исполнение всяких церковных обрядностей считалось ими почти обязательным, и это особенно со стороны матери; отец же относился к такому религиозному ригоризму далеко не с таким рвением, и если не протестовал против него, то исключительно благодаря нежеланию раздражать нервную натуру матери; но для матери религиозные обрядности составляли действительно настоящий культ. Для нее это не было чем-то только внешним, формальным – это было целое обширное мировоззрение, которое охватывало одною общею гармоническою системой все проявления человеческой души; в ней заключался ответ и на самые сложные запросы жизни и на самые возвышенные задачи нравственности и находилось удовлетворение всем эстетическим потребностям в жизни. Это был поистине какой-то религиозный романтизм, который в дальнейшем своем течении, при увеличивающихся тягостях жизни, принимал характер средневекового аскетического формализма, такого же иногда сурового и нетерпимого. В первые мои младенческие годы я не помню суровость этого режима; в этом культе как для матери, так и для меня все еще было полно чего-то возвышенного, таинственного и поэтического.
Да и действительно при необыкновенной духовной скудости окружавшей нас жизни скучного городка, представлявшего лишь исключительно административный центр, при крайней низменности духовных запросов, которыми жило окружающее нас чиновничество и мещанство, такой поэтически-религиозный культ вряд ли не являлся единственным идеальным началом жизни, в котором могли находить удовлетворение наиболее чуткие натуры.
А насколько были грубы и неприхотливы еще формы и требования окружающей жизни, можно судить по тому, что, например, мои воспитатели-«философы», как дядя и учитель, несмотря на разработку головоломных философских тем в своих «задачках», которыми они славились по всей семинарии, принимали участие в больших кулачных боях, происходивших почти вблизи нашего дома между семинаристами и мещанами; или в том, например, что моя матушка, несмотря на возвышенность своего религиозно-эстетического культа, вряд ли не снисходительнее относилась к этим боям, чем к разным комедиантам (волтижорам и гимнастам) и актерам, изредка наезжавшим в наш город. Как я помню, в смысле «светских» удовольствий единственно допускались лишь духовные и семинарские песни (из романтического репертуара 30-х годов) под аккомпанемент гуслей и гитары, но и то ни в каком случае не накануне праздников. Зато этим поэтическим наслаждениям отдавались со всею душой, и даже матушка, которая особенно любила песни романтического и религиозного содержания. Она с особенною любовью вспоминала о своем старшем брате, которого я никогда не видывал, кончившего курс в каком-то высшем учебном заведении в Питере и поступившем там же на службу, но скоро умершем. Особенно, по ее словам, он любил поэзию такого рода и даже сочинил целую книжку таких стихотворений.