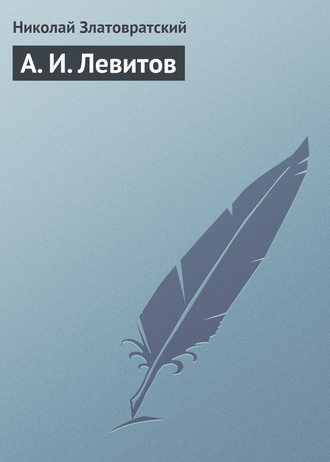
Николай Златовратский
А. И. Левитов
Все это был почти еще сырой материал, набросанный отрывками. Читая, Александр Иванович часто дополнял многое своими словами, часто вставлял целые новые сцены, которые рождались в его фантазии тут же, во время чтения. Когда он кончил, он был бледен, рукопись дрожала в руках, глаза были полны слез.
– Все это, как видите, еще отрывки, – заметил Александр Иванович. – Но мне тяжело приступать к обработке этой вещи… Я боюсь сам ее. Надо вон отсюда… мне так и кажется, что изо всех углов и стен, отовсюду глядят эти тени и хохочут надо мной душу раздирающим смехом.
Рассказ этот так и остался недоконченным. Появились лишь отрывки из него под разными названиями.
Так дорого иногда стоили Левитову его произведения, и понятно, что ему действительно было тяжело писать эту вещь, а тем более вряд ли бы он мог бесстрастно и спокойно обработать ее.
Я долго не мог отрешиться от тяжелого впечатления как от этого рассказа, так и от тех истинных «мук творчества», которые терзали Левитова. И это было тем тяжелее, что по некоторым намекам в последующих наших разговорах ему как будто хотелось выбиться из-под гнета этой юдоли горя и скорби, подняться над нею, повеселее и пошире взглянуть в лицо жизни, отдаться вновь тому юношескому размаху поэтического чувства, которым так богата была его натура. Недаром он любил и Пушкина и Гоголя, зачитывался «Войной и миром» Льва Толстого. Он, может быть, больше, чем кто-нибудь другой, знал и чувствовал, что русский народ – как бы ни была велика его страда – был могучий, исторический народ, создавший великое государство, взрастивший и воспитавший в себе ту «душу живую», которая, лишь только касался ее свет свободы и духовного развития, являла миру высокие образцы ума, таланта, самоотречения и подвига. Но было уже поздно: «маленький человек» с его горем и демоном-мучителем крепко-накрепко заполонил себе Левитова; он выпил весь сок его нервов, истерзав муками непрестанного душевного беспокойства и заставив выпить всю ту чашу бедности и бесприютности, в которой погибал сам. Левитов был истинным поэтом нашего пролетария, «поэтом горя сел, дорог и городов», сумев не только проанализировать это горе, но и согреть мягким поэтическим чувством, несмотря на все тяготы переживаемых ощущений. Некоторые справедливо замечали, что в его произведениях чувствуется что-то диккенсовское.







