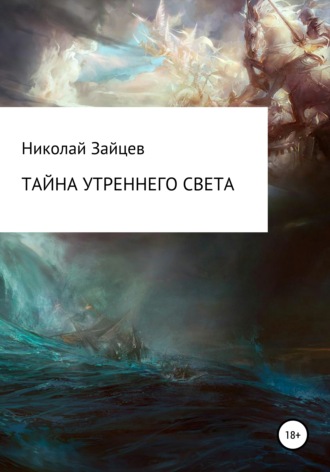
Николай Петрович Зайцев
Тайна Утреннего Света
Лёгким движением портьеры на окне (никак не иначе), это ожидание проявилось в образе девушки, что ещё недавно подавала закуски в кабинете редактора журнала «Христофор Колумб». Она остановилась перед столом, давая писателю время убедиться в достоверности своего присутствия. Да, несомненно, это была она. И если даже перед ним находился призрак, он в точности воспроизводил оригинал. Девушка, помедлив, взмахнула пушистыми ресницами и спросила:
– Петр Петрович, вы чего-нибудь желаете ещё?
– Только вашего присутствия, – хотел было ответить гость, но не сумел вымолвить такие дерзкие слова и задал несколько неумный вопрос. – Вы ведь недавно присутствовали на нашей встрече в редакции? Когда вы успели попасть сюда?
– Где скажут, там я и должна находиться. В том месте, где это необходимо. А как туда попасть – не моя забота, – очень туманно объяснилась девушка.
– Но как-то это всё должно происходить, – не унимался Царёв.
– Должно и происходит, не изменяя ничего вокруг, невидимо, незримо. Вам лучше того не знать, а принимать всё как есть, готовым.
– Отчего же такая тайна. Я живой человек и желаю ясности в происходящем здесь, со мной.
– Одного вашего, пусть даже большого, желания недостаточно. Тайны не для живых людей. Радуйтесь тому, что есть сегодня. Горевать будете потом.
– Я хочу знать всё и сейчас, – торопил события Царёв.
– Невозможно. Сейчас только радость проживания на земле. Забудьте, о чём мы здесь говорили. Наслаждайтесь жизнью. Вы, конечно, сегодня очень устали. Наверху приготовлена постель. Если я вам понадоблюсь, подумайте о том, – девушка, легко ступая, прошла за спину Царёву, и когда он обернулся – исчезла. Основы мироздания восстановили свои позиции в Космосе, и приделы его успокоились и более не пытались нарушать вечную закономерность своего местоположения в великом пространстве мирового океана.
– Одно лёгкое дуновение ветра, трепет портьеры, взмах пушистых ресниц, – облекал в поэтические строки своё изменившееся настроение гость. – Опять не узнал, как зовут это неземное существо. Обязательно нужно будет спросить имя, – налил себе коньяку писатель. – Неплохо было бы с ней подружиться, – какие более поздние отношения имелись в виду, он пока не предполагал.
– А зовут меня – Ада, – пропел за спиной лёгкий ветерок, и невесомые ладони коснулись плеч. Он напрягся так, что рюмка, с налитым в неё коньяком, задрожала, и содержимое расплескалось по столу. Будто электрический ток пронзил его тело, заставил содрогнуться и, собрав на телесной периферии всю отрицательную энергию, ушёл через дрожащие нижние конечности в пол, в землю, в преисподнюю. Волнение не давало вымолвить слова, все части тела неожиданно полегчали, нежное тепло прилило к щекам и конечностям – то созидательная энергия заполняла освободившееся пространство. Ада присела на локоток кресла, погладила Царёва по голове, и он почувствовал, как волос вздыбился навстречу движениям её ладони. Неодолимая сила влекла к ней всё его существо, притягивала и теснила и бездонная глубина внезапно опустевшего сознания не могла противостоять этому обжигающему напору. Рука его потянулась к талии девушки, обвила стан, и истома чувств растворила последние проблески разума в мощном потоке горячо забурлившей крови. Однако девушка легко отстранилась, оставив полыхать в кресле безумную мужскую плоть, оправила на себе великолепное вечернее платье сиреневого тона с серебристой блёсткой и пояском нежно-медвяного цвета. Открытые плечи, по которым распушился тёмный волос, оттенивший точёную мраморную шею, с которой струйкой в ложбинку между чуть прикрытых платьем чудных холмиков, стекала золотая цепочка, дразнили мучительной тайной и писатель, подталкиваемый биением сердца, начал подниматься с кресла.
– Девушек в начале встречи угощают, Пётр Петрович, – улыбнулась Ада и придвинула к столу кресло, пустовавшее у окна, несколько остудив пыл писателя.
– Да-да, конечно, – смутился, приходя в себя, Царёв. – Но я то, собственно, здесь гость, – искал оправдания он.
– Но глоток коньяка вы всё же можете налить, – попросила Ада. Петр Петрович ухватил, дрожащей рукой, пузатую ёмкость и набулькал под самый верх, стоящий с другой стороны стола бокал.
– Да, – пропела девушка. – Вы уже давно не бывали в обществе женщин, Петр Петрович. Разве можно столько выпить. Поднять и то будет тяжело, – она поднесла ко рту бокал и пригубила коньяк. – Вкусно. Может оттого так приятен этот напиток, что рядом находится мужчина? Давно не сидела так близко с живым человеком.
– А как же редактор, сотрудники? – не понял гость.
– О, это совсем другое. Мы редко видимся. Только по службе. Никто не приглашает меня за стол.
– Удивительно. Красивая девушка скорбит о нехватке кавалеров. Где же вы живёте, если у вас всё так плохо.
– В местах, хуже которых не бывает. Но к чему этот разговор, вам сейчас хорошо?
– Да. Но я хочу как-то помочь.
– Помочь? В чём? Разве вы могли оказать помощь себе, когда нищенствовали? Когда вас унижали и оскорбляли ваши лучшие помыслы? Теперь вы имеете право ответить тем же образом. А вы о помощи. Кому? Уродам, что измывались над вашим творчеством. Они прекрасно знали, что делают. Теперь ваш черёд известности и славы, пользуйтесь. Потом не удастся ничего. И обо мне жалеть не нужно. Счастье коротко. Приласкаете сегодня, и я буду благодарна, откажитесь – тоже ничего не изменится. Спешите. Удача соизмерима только с потерями. Сейчас всё, потом – тьма и навсегда. За вас, – Ада приподняла бокал. Царёв не отводил взгляда, ловил каждое движение и слово девушки. Он видел и не видел её; ему казалось, что она продолжение экрана телевизора, до того необычно смотрелась одежда, движение рук, губ расходились со звучанием слов, их смысл заметно отличался от влекущей к себе, уходящей в разрез платья, ложбинке, куда стекало золото цепочки. И вот девушка поднялась, отошла к окну и наклонилась над магнитофоном и сразу же полилась музыка – чувственная, тягучая, как боль нерастраченной любви. Она проникла всюду, дальше, чем возможность суметь быть просто звучанию. Смелым наваждением были эти звуки. Среди них танцевала Ада. Наверное, так двигались в танце богини Олимпа, а может, феи цветочных лугов. Царёв врос в кресло, от него остались только зрение и слух, что ловили движение и музыку танца. Время тоже остановилось в глазах, и сколько мгновений длилось блаженство созерцания, судить было трудно потому, что когда всё разом исчезло – и музыка и девушка, казалось, прошла эпоха, и наступила такая тишина, что его одолела боязнь даже малого движения, и лишь губы приоткрылись, и вымолвили, вымолили одно слово, что сохранила память из прошедшего времени: «Ада». Откуда-то сверху, будто с небес, ответилось: «Поднимайтесь сюда. Укладывайтесь. Я потом к вам приду». Выйдя в сени, хотя желания покидать уютную комнату, наполненную ещё не остывшими чувствами, не только не возникало, но даже не хотелось допускать мысли, что где-то наверху может существовать ещё одна Ада и всё произошедшее повторится. Он в полутьме поднялся по лестнице в мансарду дома, где всё было готово к безмятежному отдыху. Большая, резная по спинкам, кровать звала к себе белоснежной простынёй и приоткрытым над ней светло-голубым одеялом. Расписанные синим узором, высоко взбитые, подушки обещали сладкий сон. Покой этого уютного уголка в царстве Морфея подчёркивался мягким светом настенных бра и непроницаемо- тяжёлыми занавесями окон. Петр Петрович прошёл к постели и, вдруг, в зеркале увидел своё жалкое отображение. Заношенный, купленный давно и навсегда пиджак, под ним рубашка с остатками стального цвета, ставшего от времени безразлично-серым и к этому всему одряхлевшие штиблеты с истёртой желтизной на боках, на них спадали чёрные штаны больше похожие на рабочую робу. «Светский лев. Покоритель женских сердец», – он приблизился к отражению и всмотрелся в себя. На него глянула лицо с уже проросшей щетиной по щекам и подбородку, обрамлённое небрежной «писательской» причёской. Отпрянув от зеркала, уже в отдалении уловил в нём силуэт ещё могучей, не согбенной невзгодами мужской фигуры, успокоился и, начав раздеваться, осознал, что к богатству нужно привыкнуть, а пока даже с крупной суммой денег в кармане он ведёт себя по-прежнему – плохо одет и потому никто не испытывает к нему должного уважения. «Привычка – вторая натура», – шаблонно пронеслось в голове, и он нырнул под одеяло в ожидании необычного праздника, радость которого должна основательно переменить его жизнь. Каким жарким фейерверком вспыхнет темнота, но в центре вздрогнувшего света обязательно будет присутствовать женщина – Ада.
Нежность свежего постельного белья успокоила сумятицу его мыслей, и невольная дрёма растворила реальность ожидания праздника в неясных картинах надвигающегося сна. Когда что-то лёгкое, как продолжение детского сновидения коснулось его груди, он сразу же очнулся и ощутил, проникающее в глубь тела, тепло женских рук. Он замер, но темнота начала оживать, и тело задрожало в унисон её пробуждению. Сразу вспомнилась юность, и только грудь женщины упругим жаром коснулась его рук, объятия обратились страстью, и он вжался в долгожданное тепло всею мужской силой и лёгким облаком закачался в необременённом временем пространстве. Он то проваливался в самые глубины блаженства, то возникал на мгновение в яви, пытаясь осознать, что такое происходит с ним, но тут же пропадал в чертогах наслаждения.
Спокойный полумрак встретил его пробуждение. Ничего не напоминало о ночном буйстве плоти – женщины рядом не оказалось, помнилось же что-то нереальное – ожог, не более, как сон юноши, где неясность ночных снов утром оборачивается утренним разочарованием непродолжительностью эротических видений. Но сладкая боль в истомлённых мышцах тела, постанывая, напоминала: «Было, было». Царёв встал, накинул, приготовленный кем-то, пушистый халат, подошёл к окну и отодвинул портьеру. Сумрак исчез, а вместе с ним удалились запахи и звуки прошедшей ночи, прекрасной, но короткой – прикосновение любви и только. А дальше, что случилось дальше? Провал в ночь, утро и сразу же свет. Горячие женские руки и пробуждение. Он обернулся на постель, откуда только что поднялся. Она казалась совершенно нетронутой, гладкой и холодной – в ней могла жить только скользкая прохлада простыни. Отброшенное одеяло снежной горкой дыбилось на другой половине постели, всем своим видом отрицая возможность присутствия тепла в этом небрежно воздвигнутом сугробе. Взгляд в зеркало обнаружил ту же безразлично отражённую действительность. Он быстро спустился вниз, чтобы восстановить произошедшие события в самом их начале и нашёл стол с приготовленным завтраком, но без признаков чьего-либо присутствия рядом. Тогда, уже удручённый отсутствием внимания, он вышел во двор, надеясь обнаружить за дверьми дома протекание жизни или её отсутствие. На улице, в небе, щурилось над горами яркое и чуть тёплое осеннее солнце, опавшая листва, промытая росой, не шуршала, а лишь слегка шевелилась под ногами, пружинила, казалось, что ступаешь по мягкому ковру. В углу двора, у забора, притаившись под ещё полной листвы, густой и высокой ивой, стоял сруб самого настоящего колодца, с журавлём и ведром, а дерево, издали очень напоминающее своей кроной хохлатку, как бы покрывало раскинутыми крыльями наседки такое вот необычное гнездо. Царёв опустил ведро в тёмную глубину колодца, выкрутил его назад переполненным хрустальной свежей воды, не удержался и, скинув халат, окатил себя этой, сверкающей на солнце, прохладой. На секунду замер под ледяным душем, но уже через мгновение, воспрянувший к новой жизни организм, радовался солнцу, воздуху, увядающей красе природы. Немного огорчали мысли об отсутствии Ады, и неизвестность её местонахождения не подавало надежды на скорое свидание. Мало того и хуже, что он не знал, где, в каком районе земного шара, обретается гостеприимный дом, в котором его привечают, и какое время назначено ему здесь для проживания. «Недельку, – сказал Леон при расставании. – А если он не управится за этот срок со своими французскими делами? Ну и пусть, он готов ждать, если, конечно, рядом будет Ада», – и писатель отправился завтракать.
Вкусив яств от самобраного стола, чем послал Господь, иначе назвать эти чудеса было нельзя, он попивал ароматный чай, когда за спиной послышались лёгкие шаги. Ада выросла перед ним одетой в джинсы и светлую кофточку, отороченную по краям кружевами. Фигура её, в этом наряде отличалась той непринуждённой стройностью, что встречается у балерин. Многое хотелось сказать, спросить, но он молчал, боясь спугнуть видение, что казалось сказочным, ненастоящим и потому могло исчезнуть от шума, даже от слабого шороха нечаянного движения. Что-то изнутри подсказывало нереальность присутствия девушки, и только молчание и неподвижность могли продлить её существование рядом, пусть бессловесное и недоступное. Оцепенение медленно проходило и захотелось сказать незначительные, ласковые слова, обнять девушку, вдохнуть запах волос, понять, что тайна доступна и не ведёт к непосильным размышлениям о происходящих с ним чудесах. Девушка молча прибирала стол. Захотелось остановить её быстрые руки, взять в свои ладони, прикоснуться губами и так остаться быть, вжавшись лицом в их тепло. Он потянулся к этому своему желанию, но Ада легко подняла уложенную на поднос посуду и скрылась в соседней комнате. Лицо полыхнуло жаром от собственного промаха и безразличия девушки к этому его движению. Поднявшись из кресла, Царёв отошёл к окну, глубоко вдохнул, пытаясь унять стук выпрыгивающего из груди сердца. Ада вышла, глянула в сторону Царёва, виновато улыбнулась и принялась протирать поверхность стола. Отдавшись своим воспрянувшим чувствам, он подошёл сзади и, когда девушка выпрямилась, обнял плечи кольцом рук, захватил полынный запах волос, утонув в них лицом, и сдавленно прошептал: «Ада, я люблю тебя». Девушка мягко высвободилась из объятий, отступила на пару шагов, приостанавливая порыв мужчины вытянутыми против него руками, промолвила нежно, но категорично: «Для любви ночь и только ночь. Займитесь чем-нибудь, Пётр Петрович. Пишите. У вас масса свободного времени. Я принесу бумагу и ручку. А мне надобно быть на службе, в редакции. Не обижайтесь. Ночью я ваша, а днём даже и не своя, – она вышла в ту же комнату и вернулась с толстой тетрадью и ручкой. – До вечера», – махнули от двери её пальчики, и Ада исчезла. На улице заурчал мотор автомобиля, и стихло, а Царёв всё стоял посреди комнаты, может в ожидании ночи, или проявления себя в светлом воздухе дома, откуда только что упорхнула красота, без которой все движения становились бессмысленными.
«Легко сказать – пишите», – размышлял над раскрытой тетрадью писатель. О чём рассказывать, если даже не знаешь, где находишься сам. Можно офантазировать ситуацию, в которую он попал, но для этого нужно иметь особый дар провидения. Кто сейчас может что-нибудь предугадать? В мире царит хаос, какого не бывало до сотворения этого самого мира. Кому-то он выгоден, этот бардак, чтобы среди этой вселенской вакханалии создать своё царство, свой режим. Очень скоро планета с её жителями – жестокими и плотоядными, из-под руки Господней скатится в объятия дьявола. Написать об этом? Но он предупреждает страшные события будущего в книге, что готовится в печать. Только никто ничего не поймёт. Прочтут, конечно, ужаснутся, но никогда не подумают, что катастрофа должна случиться с ними – человеками, живущими на Земле. Люди не видят себя в будущих событиях, тем более страшных. Только явное, очень заметное начинает пугать, когда уже совсем поздно спасаться. Оттого и беды. Все несчастия человеческие можно предупредить заранее. Но авось пронесёт. И этот «авось» не только русский, он на всех языках звучит, во всех головах свербит. От непостоянства жизни такое непонимание творится. Авось пронесёт беду и на моей жизни ничего страшного не случится. Но случится и плач, и скрежет зубовный – не достанет у Божьего гнева милости к нам. И времени хватит каждому познать такие времена.
Так и не оставив на белых листах ни единой буквы, он закрыл тетрадь и поднялся наверх, открыл шкаф и обнаружил в нём, на полке, спортивный костюм, похоже оставленный здесь для него. Переоделся в него, хотя и не любил физкультурную амуницию, примелькавшуюся на городских улицах, ставшей отличительной формой мелких бандитов. Кто-то решил, что очень прилично ходить на работу, на свидание и даже в театр в спортивном наряде. Новое, не пролетарское, а мускулистое хамьё заполонило рынки, кабаки, дискотеки, дефилируя в разномастных «адидасах», «найках» и просто в китайском ширпотребе. Они пришли налаживать рыночную экономику прямо из спортзалов, стадионов со своей культурой, отражающей сиюминутные потребности организма, и увлекли за собой множество подражателей такому образу жизни. Царёв решительно не понимал, почему так быстро расплодились эти люди с тугими загривками, узкими лбами и плечами непомерной ширины. Они явились вместе с перестройкой, привнеся в жизнь свой лексикон, хамские манеры, презрение к вековой культуре народа и человеческой слабости. Если когда-нибудь существовали питекантропы, то это были они, надевшие спортивные костюмы, кожанки и обрив лохматые головы. Неандертальцы и попали в тупик, столкнувшись с питекантропами. Более культурное племя всегда вымирает при нашествии вандалов. Так было, и будет происходить во все времена. Наше время не исключение. И двухтысячелетняя христианская культура тоже растворится в хамстве, порнографии и распутстве. Вместо иконы, с ликом Божьей матери, почитается фотографическая картинка с оголённым срамом певички Мадонны, культовый образ насильников все мастей не сходит с экранов телевизоров. Америка пожирает половину природных запасов планеты. С помоек американских городов можно накормить голодающее население Африки. Человечеством управляет соблазн. А соблазн подбрасывает…, погоди, погоди, а это неожиданное богатство? Нет, нет. Леон хочет помочь. Он издаёт книгу, где осуждается человеческое непотребство и возвеличивается разум. Выйдет книга, тогда будет видней, что там притаилось в будущем. В конце концов, у многих писателей случаются какие-то помощники, меценаты. Многие великие люди не брезговали писать биографии богатых проходимцев потому, что те платили деньги, нужные для жизни и написания высокохудожественных произведений. Писатель, как человек, всегда зависим от общества, а общество от происходящих в нём перемен. Он в своём творчестве только предугадывает события, но изменить их протекание не в силах. События людьми воспринимаются уже завершёнными, непроизошедшее считается выдумкой – фантастикой. Имя пророка узнают позднее, нежели его пророчества. Долго гадают – сбудется или нет, а случится, и самого предсказателя помянут недобрым словом (кабы болтал поменьше, ничего бы и не случилось), но те, что поумней, поймут, но рассудят так – вот если бы всё повторилось заново, такого бы несчастья не произошло. Но дальше будет всё также, по-прежнему – никто никому не верит, ибо сказано – в своём доме пророков нет, а те, что далече и вовсе не слышны.
Чтобы освободиться от нелёгких мыслей, Царёв решил прогуляться. Он любил ходить, бродить в одиночестве, такие походы успокаивали нервы, но мысли никогда не покидали голову – вырастали из ничего, двоились, троились и, достигнув совершенства, частью исчезали, оставшиеся становились непредсказуемыми, разбивались на самостоятельные течения, спорили, ругались, старели и обновлялись, и каждая прогулка радовала новыми берегами открытий или огорчала зрелостью понимания будущей катастрофы. Осознание дикого упадка морали, безнравственности человеческих взаимоотношений пугали и путали мысли, разум слабел от беспощадности насмешек юродствующих пророков над самыми сокровенными мечтами людей, не желающими опускаться до уровня скотского потребления благ цивилизации. Но сейчас не хотелось горьких мыслей, и он отправился за свежими впечатлениями, пока не зная куда. По не очень широкой улице, зажатой между разномастными и разновеликими дачными домиками, оглядывая заборы, окна, крыши, декоративные и плодовые деревья, Царёв не спеша, двигался навстречу поднявшемуся из-за гор солнцу. На перекрёстке показался мужчина, едва передвигающий ногами, то ли не протрезвевший или уже пьяный. Увидев Петра Петровича, гулеван остановился и пошёл навстречу. Он был довольно прилично одет для простого алкоголика – тёмный в полосу костюм и чистейшего цвета белую рубашку. Ясные голубые глаза глянули прямо в душу.
– Как хорошо, что я вас встретил, – заговорил, пьяно растягивая слова, незнакомец. – Вы теперь здесь живёте. А я в гостях побывал, да подзадержался малость, и ладно, что так получилось – с вами встретился, – он ухватил обеими руками ладонь Царёва и, не отпуская, продолжал говорить. – Вы не отвечайте, я только на вас посмотрю и пойду.
– Куда пойдёте-то? – спросил удивлённый писатель.
– Не знаю. Куда-нибудь. Может быть, вы меня пригласите к себе? – в глазах мужчины появилась мольба.
– Я не могу. Сам, видите ли, в гостях, – смутился Царёв. – И дом мой в городе. А вы где живёте?
– Нигде. И жилья у меня никакого нет. Довелось с вами встретиться и хорошо и ладненько. Поговорить хотелось, но раз не хозяин вы и я не гость. А дом ваш уже не тот, каким вы его оставили, и ещё много нового вам узнать предстоит. Я всегда находился рядом, а нынче едва нашёл вас. Такая вот досада. Пьяным трудно жить, но хуже остаться одному, тет-а-тет с никому не нужной свободой.
– Кто вы такой? – забеспокоился писатель.
– Никто. Просто прохожий, – незнакомец понурился и, сильно шатаясь, отправился своей дорогой. Когда остолбеневший от диковинной встречи Царёв опомнился и кинулся догонять прохожего, того уже простыл след, а может его и вовсе не было. «Привиделось», – подумал он, сомневаясь в своей догадке. Безмятежной прогулки не получалось, сознание полонил вопрос: «Кто он этот нежданно повстречавшийся мужик? И спросить ничего не успел. Нет, спросить-то – спросил, да ответа должного не получил. Надо было позвать его к себе. Чего испугался? Так всегда бывает, с кем хочешь поговорить – не получается, с надоевшими собеседником – до обморока. Встреча случайная, а никак не забыть. И глаза у мужика светлые, будто горное озеро и когда глянул он ими в лицо, то мелькнуло что-то в глубине их юное и кучерявое, как детство далёкое. Угораздило же таким занудой быть – подумаешь, встретил кого-то, ну и Бог с ним, так нет, теперь неделю, как в повозку запряжённый, думать будешь – по каким далям всю эту поклажу тайную растащить, чтобы забыть навсегда. Сказал же мужик, что прохожий он, чего ещё надобно? И ты прохожий и все остальные того же случая дети. Чего мучаться зря и не просил он ничего, а зачем искал тогда? Говорил же, что едва нашёл. Зачем? Ладно, может, ещё свидимся, – взошёл писатель на высокий берег реки. Вода бежала по руслу глубоко внизу, а другой берег её высился крутым обрывом, где поверху повисли вниз пожелтевшими кронами, зацепившись за свою жизнь тугими корнями, торчащими из земли и похожими на переплетённые конечности спрута, огромные деревья. «Каждый цепляется за жизнь, как может. Вниз головой, но только бы жить. Даже дерево пытается отдалить свою смерть, и только человек всячески приближает катастрофу, коей закончится его пребывание на Земле». По крутой тропинке, протоптанной между камнями, Царёв спустился к воде. По-осеннему медленный поток воды, изумрудным чистейшим цветом переливался в лучах нежаркого солнца. Писатель присел на чёрный, прохладный камень, неотрывно всматриваясь в отраженное в чистейшем зеркале зелёной воды жёлтое небо. Голубой купол над головой, упав в реку, переменил свой цвет, а, может быть, эта увиденная им необычность пробилась изображением с другой стороны земли, преломив через воду свою цветовую гамму. Небо оборотной части планеты. Другое, неизвестное небо, глядело на него из воды, из-под воды, из-под земли. Ему не доводилось бывать на обратных сторонах земного шара, он не видывал тамошнего небосвода, туч и облаков на нём, но знал, что если сейчас утро, то на другом конце света должно быть наступил вечер, и переходящее на другую сторону солнце выжелтило небесную сферу, что и обозначилось на водной глади.
Царёв потрогал проступающее из воды жёлтое небо Америки, может, Индии, ощутил мокрую прохладу осени и решил, что окружающие его природные изыски: зелёная вода, речные камни прекрасны своей неповторимой величавостью, и сама жизнь среди этой красоты не может остановиться и нужно продолжать всё это любить и ждать, когда наполнится этим чувством пространство вокруг и отзовётся взаимностью. Лёгкий ветерок пронёсся в каньоне реки, запестрил воду волнами малого шторма, очистил от потусторонних явлений, деревья над обрывом тягостно зашумели своими опрокинутыми книзу кронами, тучки в небе начали резво набегать на вершины и склоны гор, солнечный свет померк и, обнаружив в природе признаки начинающегося дождя, Царёв поспешил домой. Первые капли дождя всё-таки прихватили его на том самом перекрёстке, где повстречался утренний странник, но лишь он вспомнил о нём, как с неба полил мелкий, но густой и холодный осенний дождь. У калитки дома, куда он стремглав добежал, натянув на голову спортивную куртку, стояла та самая машина, что привезла сюда из города. Промокший, он ворвался в дом с одним желанием скорее увидеть Аду. Но за столом восседал шофёр-кабан, скаля навстречу вошедшему писателю крупные жёлтые зубы. «Улыбка же у вас», – и даже не поздоровавшись, разочарованный неприятным посещением гость, поднялся наверх сменить мокрую одежду. Надев халат, спустился вниз с желанием не застать водителя, но увидеть красавицу хозяйку. Но никто не собирался уходить, и девушка присутствовала, накрывая стол на троих. Царёв ощутил дикий прилив ревности и вновь поднялся наверх и завалился в кровать – нужно перестрадать свои намерения встречи. Он так боялся своей любви и она, в отместку, полонила его всего, без остатка, он мучился, будто влюблённый юноша, ещё не ведающий наказаний за свои безоглядные желания. Дрожь пронизала тело, покалывала и звала бежать вниз, но разум не отпускал и только когда он услышал, как взревел мотор автомобиля, подскочил к окну и увидел отъезжающую машину. Ада покинула его, и пустота дома пугала. Всего-то шёл второй день отдыха, а столько потрясений пришлось испытать, что не верилось в происходящее. Непонятные или непонятые события утомили писателя, и он заснул крепко, как спят люди, боясь вернуться к действительности.
Проснулся поздно, дождь кончился и, омытая его светлыми струями осенняя природа светилась чистой красой, сброшенной и ещё остающейся на ветвях, листвы. Полюбовавшись из окна величием красок небольшой, но дерзко наполненной потрясающим смешением палитры красок рощицы, где у одних деревьев кроны полыхали жарким пламенем листьев, а другие уже обнажённые затомились в ожидании холодов, он, вдруг, подумал: «Удивительное дело, люди одеваются теплее в преддверии зимы, а эти оголяются, как женщины на жарком пляже». Относились такие чудные мысли к берёзкам, что составляли основу рощи и с голыми, поднятыми кверху ветвями, будто стараясь прикрыть наготу, выглядели беспомощными. «Такое неравновесие в природе и жизни – одни девчонки в красивых нарядах радостны и веселы, других уже успели раздеть, и они грустят», – ещё раз вздохнуло сознание Царёва и задёрнулось шторой на окне. Ему ничего и никуда не хотелось, а писать в таком подавленном настроении – произойдёт перевоплощение писательского таланта в пустую сутолоку слов, и возвращения к образам живым и страстным может никогда не повториться. И хотя говорят, что талант невозможно потерять и пропить, но если хорошо попробовать, может получиться. И это не было состоянием привычной хандры – того впечатляющего безделья, когда творческие люди мучаются беспричинной тоской по работе, хотя их всегдашний труд и состоит в мысленных поисках выхода из периода сладостного бездействия. Да-да, того беспечального сибаритства, из которого и рождаются замыслы новых произведений. Можно месяцами слоняться по улицам, кабакам, гостить у друзей, вести пустые беседы с пьяницами, доморощенными интеллектуалами и просто дураками, но все эти посиделки, вдруг выплеснутся тёмной ночью или светлым утром циклом замечательных стихов, мечтательной повестью, картиной, воспроизводящей саму печаль непреходящей хандры (хотя не знаю, возможно ли такое впечатление). Этого счастливого состояния никогда не знают графоманы, потому ежедневно корпят над созданием своих шедевров, не понимая, как можно тратить время жизни на глупости. И удивляются, когда, вдруг, из легкомысленно потраченного времени рождаются драгоценные строки слов, безумно-прекрасная живопись, всё самое-самое читаемое, слушаемое и прославляемое. Вообще, ситуация знакомая Царёву, но поражала причина безмолвия – любовь. Чувство это ещё недавно казалось безвозвратно утерянным. Долгие неудачи развели его с женой и более уже не допускали участия в серьёзных отношениях с женщинами. Были, конечно, романы с амбициозными поэтессами, романистками всех мастей – напыщенными и очень мало похожими на женщин. Они уже перестали быть женщинами, но ещё не совсем превратились в писателей и не потому, что не хотели того, а были задуманы природой на совсем другую роль в мире – воссоздавать человечество. Они перестали этим заниматься, увлеклись поисками литературной славы, объясняя своё одиночество присутствием таланта. Царёв замечал, что отрыв от женского начала порождает болезненное восприятие жизни, слов в ней и всего происходящего вокруг. «Лучше бы они сплетничали на кухне, ласкали своих мужей и были бы по-женски счастливы», – такой приговор выносил он своим подружкам, что уже на утро становились невыносимой обузой, досаждая многословием в непроходимой глупости. И справедливо полагал, что для женщины нет глупее занятия, чем старание казаться умной. Он давно заметил – удачливыми поэтами и писателями, что встречались на его пути, почитались женщины довольно благополучного образа жизни – замужние и без всяких мужских повадок. Ибо освобождение женщины от гнёта в социуме, ограничилось перениманием самых гнусных и мерзких мужских привычек. И если мужчины при наличии таковых особенностей крепко держатся на ногах, то женщины отправляются в ад, ещё проживая на земле, впрочем, не понимая своей вины в этом. Признание вины – признак совершенного разума. Увы, ни к одной женщине такой тождество сил не подходит. Лишь каприз – почему им можно, а нам нельзя, руководит эмансипацией женщины. Потому и нельзя, что невозможно за короткий период превратить сознание женщины в мужское понимание жизни. Что можно и что нельзя, вопрос очень долгого времени, когда разум укрепится в понимании греха и святости. Тогда можно всё, но станет ли эта вседозволенность необходимостью или достаточно будет простой женской жизни и материнского счастья в ней. Когда Царёв начинал объяснять такие истины в стенах какого-либо салона, заполненного литераторшами, курящими сигареты, дым которых щипал глаза, и они подёргивались туманом, что считалось достижением необъяснимого оргазма вдохновения в сознании чего-то, на него смотрели, как на маньяка, посягнувшего на невинность сразу всех женщин вселенной. Он быстро исчезал, и уже по дороге к дому понимал, что если обесчестишь всех девственниц сразу – это страшное преступление, а вот если всех, но по одиночке – геройство. И при всех его долгих, мучительных и часто недобрых мыслях о прекрасной половине человечества – любовь жуткая, светлая и почему-то далёкая.




