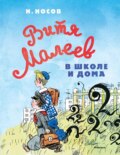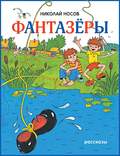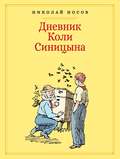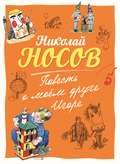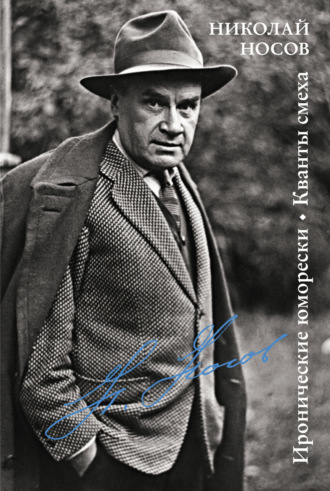
Николай Носов
Иронические юморески. Кванты смеха
Нужно ли называть своих родителей предками и конями и о других подобных вопросах
1
Милая девочка Лялечка!
С куклой гуляла она
И на Таврической улице
Вдруг увидала слона…
Ха-ха! Я пошутил просто! Не слона увидела Лялечка. И вовсе не гуляла она, а шла первого сентября в школу. И не с куклой, а с сумкой, где лежали у неё букварь, и тетрадочки, и пенал с карандашиками – всё, что нужно каждому, кто идёт первый раз в школу. Тема эта столь поэтична, что хотелось заговорить о ней какими-нибудь милыми, трогающими за сердце стихами и настроить таким образом читателя на лирический лад.
На душе у Лялечки распускались цветы и гремели оркестры. Всё вокруг казалось изумительным и полным значения. Уже сколько дней – да что дней! – уже не первый год она мечтала о том, как пойдёт наконец в школу. Сколько раз с завистью смотрела на школьников, которые ранним утречком бодро шагали по улице с сумками. Для неё было бы счастьем хотя бы дотронуться до какого-нибудь из них. Они казались ей особенными существами. И сколько раз она расспрашивала и маму, и папу, и бабушку о школе, какие там мальчики и девочки, как они учатся, какие учителя? И мама, и папа, и бабушка рассказывали ей. И о школе, и об учителях, и о её будущих школьных друзьях, и о том, как Лялечка будет прекрасно учиться, и как учительница похвалит её, и о многом другом.
Ещё задолго до того как идти в школу, Лялечке купили школьную сумку со всеми принадлежностями и сшили новое платьице. Лялечка не раз примеряла платьице: боялась, что как-нибудь ненароком вырастет из него, и не раз просила бабушку достать из шкафа школьную сумку, чтобы полюбоваться ею.
А когда наконец наступило долгожданное первое сентября и Лялечка, поднявшись ни свет ни заря с постели, нарядилась в своё новое платье и взяла в руки сумку со всеми принадлежностями, она была как бы на седьмом небе от счастья. Все только и говорили ей, что теперь она уже первоклассница, самая настоящая первоклассница, самая-самая что ни на есть настоящая-пренастоящая первоклассница… И само слово «первоклассница» казалось ей прекрасным и полным высокого смысла. Оно как бы говорило Лялечке, что теперь она первая. А Лялечка уже знала, что быть первой – ужас до чего хорошо. Хорошо, например, встав поутру, первой побежать умываться. Хорошо за обедом первой съесть манную кашу. Хорошо прибежать первой, когда бегаешь взапуски. Вообще во всём, во всём хорошо быть первой!
И слово «класс» тоже хорошее. И в школе есть классы. И есть ещё соседский Вовка – он всё, что ему очень нравится, называет классным. У него и пистолетик классный, и оловянные солдатики классные, и заводной автомобильчик классненький. А когда папа и мама спорят о прочитанных книгах, они, если писатель им очень понравился, говорят, что он классик. Это значит, очень хороший писатель, классный.
Ну, а слово «первоклассница» – это просто чудо какое слово! Оно звучит гордо и уважительно. Когда Лялечка шагала с сумкой по улице, она твердила про себя это слово, и оно было для неё словно музыка. И теперь уже она сама себе казалась особенным существом, вроде марсианина, который каким-то чудом перенёсся на нашу планету.
А когда Лялечка очутилась наконец на школьном дворе с массой других мальчиков и девочек – и таких маленьких, как она, и побольше, и совсем больших, – её увидела тётенька с весёлым улыбающимся лицом и сказала:
– Ну, иди-ка, иди сюда. Ты ведь первоклашка, я вижу.
– Я первоклассница, – с достоинством ответила Лялечка.
Тётенька засмеялась:
– Ну, первоклассница или первоклашка – это же всё равно, глупенькая. Пойдём, я покажу тебе, где первоклашки строятся.
И она, взявши Лялю за ручку, отвела её туда, где собирались самые маленькие ученики и ученицы, и велела, чтоб все они построились парами. Потом пришёл какой-то высокий дяденька (а он был директор той школы) и, изобразив на своём лице широкую улыбку, спросил:
– А это ваши первоклашки, Ирина Дмитриевна?
– Мои первоклашки, – широко улыбнулась Ирина Дмитриевна.
– Ну, ведите, – милостиво разрешил директор. И все маленькие ученики и ученицы, все, кто впервые пришёл в этот день в первый класс, взявшись за ручки, двинулись к дверям школы.
И мы не знаем, что там было дальше.
Знаем только, что, когда Лялечка вернулась домой и все с радостным изумлением бросились к ней и закричали: «Вот пришла наша первоклассница!» – Лялечка угрюмо насупилась и сказала, что она вовсе не первоклассница.
– Кто же ты? – удивились все.
– Первоклашка.
– Первоклашка?!
– Первоклашка!
Её милые пухленькие губки, которые самой природой, казалось, были созданы только для того, чтоб смеяться, как-то не по-детски дрогнули. Она бросила на пол свою любимую сумку.
– Не пойду больше в школу! – сердито сказала она.
И слёзы закапали из её удивительных голубых глаз.
Вот не вру, честное слово! Детишки ведь глупенькие и часто плачут по каким-нибудь совсем пустяковым поводам.
На этом с лирикой разрешите покончить и перейти к другим, более прозаическим вопросам.
2
Недавно иду по улице. Навстречу две девушки. Одна говорит другой:
– А Маринка-то наша, знаешь, со своими предками поссорилась.
Эта фраза сперва как-то проскользнула мимо моих ушей, а потом меня словно толкнуло.
«Предки! – подумал я. – Так они же, как бы это сказать, давным-давно перемёрли все! Как могла Маринка поссориться с мертвецами, от которых, может быть, уже и костей не осталось?»
Я, конечно, тут же сообразил, что речь в данном случае шла не о предках в прямом значении этого слова, а об обыкновенных родителях, самых простых, так сказать, но горячо любимых и уважаемых папе и маме, которых девушки в силу установившейся среди них традиции называли условно предками.
В следующий момент меня уже беспокоила мысль, почему я не понял этого сразу. Ведь я не раз встречал это слово на страницах так называемых молодёжных повестей и романов, молодые герои которых изъясняются не иначе как на так называемом молодёжном жаргоне.
«Видно, однако ж, что к чему уже привык глаз, к тому ещё не привыкло ухо, – догадался я. – Вот буду почаще слышать такие слова в жизни (хотя бы в той пропорции, в какой они встречаются в литературе) и попривыкну. Может быть, и сам начну называть себя предком. Или конём. Чего не бывает на свете! До всего можно дойти».
Могут сказать, что такие милые словечки произносятся в шутку. Да ведь в каждой шутке есть доля правды. Родители и на самом деле близки к тому, чтобы стать в некотором роде предками. Называя родителей так, пусть даже в шутку, молодой человек как бы заранее хоронит их, начинает думать о них как о чём-то уже неживом, отжившем, несуществующем, мёртвом. Ему поначалу, может быть, и самому больно и неприятно так думать о своих родителях, то есть о самом святом и близком, что есть у человека в жизни, но понемногу он привыкает наплевательски относиться к подобным мыслям, а заодно и к подобным понятиям. А тут ещё в модном романе прочтёт он, как этакие хорошие симпатяги с элегантной небрежностью бросают это слово направо и налево: «прэ-эдки». Ему ведь тоже хочется симпатягой быть. Этаким бесшабашным удальцом, острословом, которому сам чёрт не брат, а не то что какие-то там папа с мамой.
Или вот конь ещё. Разве не остроумно отца с конём сравнить? Ведь конь, он кто? Разве конь не тот, кто работает на нас, возит нас на своём горбу? Раз так, то и отец – конь. А может быть, ещё и осёл! Чего там стесняться! В древние времена один древний грек сказал другому древнему греку: «Я назвал тебя добрым отцом, потому что не знаю имени почётнее». Молодец, древний грек! Чужого человека отцом назвал. А этот родного отца зовёт лошадью. Вот уж, как говорится, ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца.
Сказать по совести, такого даже как-то жалко становится. Отец у него уже не отец, а конь или предок, друг – не друг, а корешок или кореш, приглянувшаяся девушка – вовсе не девушка, а чувиха или шмакодявка. Как её и полюбить, если она шмакодявка? Может быть, поэтому он и не пытается любить, а создаёт теорию о том, что никакой любви нет, а есть, дескать, одно физиологическое влечение, вроде как у собаки. Если он заметит, что девушка неравнодушна к нему, то не поступит с ней благородно, как какой-нибудь там Евгений Онегин. Он-то уж не упустит того, что плывет в руки, «будь спок»! Но так как не всё человеческое ещё в нём убито, то и он может влюбиться. Влюбившись же, начнёт строить все отношения с подругой на полном подчинении её воли своей. Если же встретит с её стороны отпор, то начнёт беситься, приходить в раж и выворачиваться наизнанку. И наоборот. (Наоборот в том смысле, что так может вести себя и особа противоположного пола.)
Просто удивительно, до какой степени этот так называемый молодёжный жаргон может влиять на мысли и чувства молодого человека, на его общественное самосознание. Вернее было бы сказать, что он сам, этот жаргон, является выражением определённого самосознания, миропонимания. В действительности, термин «молодёжный жаргон» неточно отражает суть самого понятия, так как далеко не вся молодёжь употребляет эти унижающие человеческое достоинство слова, а только какая-то её часть, которую объединяют определённые (эгоистические) взгляды на жизнь, на общество, на человеческие взаимоотношения, на труд (вспомним такие уничижительные словечки из этого лексикона, как «ишачить», «трудяга» и др.).
Хотелось бы поспорить с теми, кто так усердно доказывает, что в употреблении подобных слов ничего страшного нет, кто говорит молодому человеку, заболевшему жаргонной коростой, что это-де ничего, что это-де у тебя от молодости, что это-де у тебя пройдёт с возрастом, и ты будешь как все.
А что такое «как все», позволительно было бы спросить? Разве все такие, как все? Чёрта с два! Все разные!
3
Однажды прихожу в школу. Передо мной ученик четвёртого класса, или, как его принято теперь именовать, четвероклашка. (Теперь уже успели появиться не только первоклашки, но второклашки, и третьеклашки, и четвероклашки. Скоро, должно быть, и десятиклашки появятся. Быть четвероклашкой, вероятно, обидней всего – на четвероножку похоже.)
– Ну как, – спрашиваю, – у вас в классе идёт учение?
В школе всегда стараюсь говорить «учение», а не «учёба». Педагогам почему-то не нравится это, на мой взгляд, вполне хорошее и нужное слово, и они предписывают заменять его всюду словом «учение». (Всякие «клашки» – это им ничего, а вот «учёба» – плохо).
Ученик говорит:
– У нас в классе шесть отличников и десять хорошистов.
– Ого!
Моё восклицание относится, впрочем, не к приведённым цифровым показателям, а к этому неожиданному для меня слову. Я всё же стараюсь не обнаружить своей отсталости в области языка.
– А ты как учишься?
– Я хорошист, – не без гордости заявляет он.
«Видать, ребятишки сами изобрели это слово, – думаю я. – Если пятёрочники – это отличники, то четвёрочники – хорошисты. Не называть же их хорошниками! Ещё нелепее будет».
Попадаю на педсовет. Там учительница с вполне благообразной педагогической внешностью так и сыплет: «В таком-то классе столько-то отличников и столько-то хорошистов, в таком-то классе столько-то…» и т. д.
«Ну, – думаю, – у ребят подхватила… а может быть, учителя сами придумывают такие словечки для внутришкольного, так сказать, употребления?»
И вдруг: «Подростковый возраст… Ребята подросткового возраста… Дети, вступая в подростковый возраст…» Сначала никак не могу понять, почему это словосочетание так активно не нравится. Потом замечаю, что здесь два однокоренных слова подряд – масло масляное! Теперь можно не сомневаться, что тут не ребячье, а чисто педагогическое творчество. На кой леший ребятишкам такое понятие, как «подростковый возраст»! Они и без него проживут!
Ухожу с педсовета и уже в коридоре слышу, как одна учительница предлагает другой отправиться вместе куда-то.
– Сейчас не могу, – отвечает другая. – Мне ещё в девятом «А» провести задушевку надо.
«Какую ещё задушевку? – думаю озадаченно. – Звучит ещё страшнее, чем “душегубка”!»
Конечно, догадываюсь, что речь идёт о задушевной беседе, которую учительнице предстоит провести с учениками девятого класса.
С любопытством оглядываюсь на преподавательницу, которая допускает в своей речи подобного рода слова: волевая такая бабёнка, с властной ухваткой, в румянце во всю щёку: заметно, что из бывших пионервожатых. Вижу: такой тётеньке что сготовить яичницу, что провести задушевку одинаково, как теперь некоторые говорят, запросто. Провести задушевку небось даже проще. Там ещё разведи огонь да яйца раскокай, а тут мели языком, не особенно утруждая себя выбором слов…
А утруждать всё же надо, потому что слово-то, оно, как сказал поэт, «полководец человечьей силы»! А только его чуток попробуй переверни, глядь – и ничего уже в нём человечьего, никакой силы, не говоря уже о какой-то там задушевности!
Как видно, у педагогов свой жаргон. Педагогический, так сказать (вернее – антипедагогический). Не особенно страшно, что в этом учительском лексиконе попадаются такие слова, как «хорошисты», и словосочетания, вроде «подросткового возраста». Слова эти попросту некрасивые, образованные в несоответствии с законами, с эстетикой языка. Гораздо вреднее слова оскорбительные, принижающие, извращающие сами понятия, которые пытаются обозначать. Это всякие вертящиеся на языке у невзыскательных педагогов первоклашки, задушевки, речовки, продлёнки, компашки и пр. Уже скверно хотя бы то, что и ребята знают эти слова. Они сами уже готовят речовки, участвуют в задушевках, обзывают друг друга первоклашками и прочими «клашками». Разве это только отрицательно сказывается на формировании их речи? Нет! И на формировании самого мировоззрения, самой нравственности!
4
В последнее время особенно заметна тенденция к переиначиванию слов по типу «компашки» и «задушевки». Теперь уже не зачётная книжка, а зачётка, не читальный зал, а читалка, не совещание по планированию, а планёрка, не авторучка, а самописка (будто она сама за нас пишет), не корреспондентка детской газеты, а деткорка, не кругосветное путешествие, а кругосветка, не Музей имени Пушкина, а Пушкинка, не «Сикстинская мадонна», а «Сикстинка», не «Пионерская правда», а «Пионерка», не аморальное поведение, а аморалка, не музыкальное училище, а музыкалка… и пошло, и поехало по раз заведённому шаблону.
И теперь уже не только мальчики стали «мальчишки», но и вполне взрослые двадцатидвухлетние парни, которых и юношами уже не назовёшь, тоже «мальчишки». И не только девочки, а даже девушки (и даже преимущественно девушки) – это теперь «девчонки». Их называют теперь так уже и в глаза, и за глаза, и по телевидению, и в печати, и в песнях (мальчишки, девчонки, девчонки, мальчишки, тра-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля!).
Откуда вдруг это стремление заменить нежное, ласкательное «ушка» (девушка, голубушка, матушка, хозяюшка, лапушка, зазнобушка) презрительным, уничижительным «онка» (девчонка, книжонка, газетёнка, правдёнка, бабёнка)? Дальнейшая демократизация речи, что ли? Но ведь слово «демократический» ещё покуда не значит «хамский»!
Почему нам и в голову не придёт сказать или написать, что Татьяна Ларина была девчонка? Или назвать девчонкой Наташу Ростову? Неужто потому, что Татьяна Ларина – помещичья дочка, а Наташа Ростова и вовсе графиня? Нет же, честное слово! Для нас их образы – выражение чистого, прекрасного, высокого, светлого, с чем слово «девчонка» уж никак не вяжется.
Если слово является выражением мысли, то ведь слово «девушка» выражает одну мысль, а слово «девчонка» совсем другую. Попробуйте мысленно назвать Наташу Ростову Наташкой Ростовой, и вы почувствуете, как у вас в голове что-то болезненно переиначивается, и на собственном опыте убедитесь, что не только слово, а уже одна буква в слове – не пустой звук. Нет уж! Заменить слово «девушка» словом «девчонка» – это не значит попросту изменить форму слова. Это значит заменить одно понятие другим, заменить одно отношение к предмету другим, что законно, лишь когда сам предмет претерпевает изменения.
Куда, впрочем, ни шло, если бы такая замена производилась лишь в каком-то кругу, при обычном, никого ни к чему не обязывающем разговоре, но она производится, так сказать, громогласно, всеобщно, с использованием всех современных средств общения между людьми. Ещё там, где два-три года назад автор иной газетной статьи написал бы «юноши и девушки», теперь он пишет «мальчишки и девчонки», ни капельки не смущаясь тем, что разговор идёт не о первоклашках, которых, кстати сказать, тоже уважать следовало бы, а об учащихся десятых классов, о выпускниках, то есть юношах и девушках в возрасте Наташи Ростовой и Татьяны Лариной, или об учащихся вузов и молодых рабочих, многие из которых успели пережениться и повыходить замуж. Этим уже, как видно, до самых бабушек суждено оставаться девчонками.
Чует сердце, что наряду с так называемым блатным, молодёжным, педагогическим и другими жаргонами существует – как бы его назвать? – журналистский жаргон или писательский. Журналист или писатель, желая максимально приблизиться к своему читателю (а его читатель – обычно он же и герой его произведения), старается и мыслить, и писать на языке своего героя. Он (такой писатель) считает, что его герой сам говорит «первоклашка» там, где следовало бы сказать «первоклассник», и тоже пишет вслед за ним «первоклашка»; он полагает, что его герой говорит «кругосветка», вместо того чтоб сказать «кругосветное путешествие», и пишет, что Магеллан, дескать, совершил кругосветку (это беспримерный исторический подвиг – кругосветка!). А так как ему кажется, что его герой (он же читатель) считает безнадёжным пижонством называть девушку уважительно девушкой (подумаешь, какое там ещё уважение!), то и называет её если не чувихой, кадришкой или шмакодявкой, то хотя бы девчонкой.
Словом, у него постепенно накопляется набор таких популярных ходовых словечек, которые являются как бы дежурным блюдом на его столе и которые он употребляет по мере надобности для пущей популярности и живописности изложения.
Иной литератор прекрасно понимает, что если он начнёт в своём сочинении твердить: мальчики да девочки, юноши да девушки, матери да отцы, то его произведение будет выглядеть слишком благообразным и его, пожалуй, и читать-то никто не станет. Вот он и заведёт: мальчишки да девчонки, кодла да шмотки, чуваки да лабухи, кони да предки, а когда дойдёт до шмакодявок, то так-то хорошо станет, что читателя и клещами от книги не отдерёшь.
Знаем. Найдутся такие люди, которые скажут, будто мы хотим наложить на язык узду, запечатать всем рты, стать поперёк прогресса и подгрызть само дерево, на котором вся литература сидит.
Скажем прямо: ничего мы такого не хотим, ничего подгрызать не собираемся. Мы считаем, что можно пользоваться всеми красотами языка, в том числе и красочными словечками из разных жаргонов. Только делать это надо так, чтоб ни у кого не возникало желания подражать тем несчастным, которые уже досыта этой словесной дряни наелись и сами не замечают, что сидят по самую чёлку в грязи.
А вот как это делать – это уже другой вопрос. Это уже относится к проблемам писательского мастерства, разговор о котором пойдёт в другом месте.
Вопрос же, поставленный в начале этой статьи, то есть нужно ли называть своих родителей предками и конями, кажется нам совершенно ясным. Тем же, кто не разобрался, скажем прямо, что называть своих родителей предками и конями не стоит. С этим лучше пока погодить.
Ещё об одном, всем надоевшем вопросе
Нынче все о мещанстве пишут. И я в том числе. Чтоб не подумали, что хочу оригинальным быть. Или новатором. Или, не дай бог, модернистом. Тема эта настолько обширна, что здесь каждый может сказать что-нибудь своё. Правда, многое уже сказано, да всё ж таки далеко не всё.
Вот, к примеру, разве сказано о мещанине хоть одно доброе слово?.. Не сказано! Всё мурло да мурло! Нельзя же так! Это хоть кого разобидеть может. Затравили беднягу совсем! Это, что ли, педагогично? Уже и самого мещанина совсем мало осталось. Не знаю, где теперь и увидишь его. Совсем недавно ещё выйдешь, бывало, на улицу вечерком, глянешь на освещённые окна домов – батюшки, сколько там на всех этажах мещанина сидит! Один на одном! У каждого под потолком шёлковый абажур: у кого голубой, у кого оранжевый, у кого нежно-розовый (это самые оголтелые мещане под нежно-розовым абажуром сидели). А что теперь? Выйди да посмотри: редко в каком окне цветной абажур заметишь – кругом всё люстры. Такой прогресс культуры за каких-нибудь пять-шесть лет, что удивительно даже!
В общем, мещанин редкой фигурой стал. А это немаловажный факт. Ещё Мигуэль де Сервантес де Сааведра сказал: «Излишество даже в самых лучших вещах приводит к тому, что они теряют цену, между тем как плохое, когда его мало, начинает цениться». Таким образом, и мещанина надо ценить, а не то что обзывать его всякими некультурными кличками.
Впрочем, некоторые мещане небось своевременно поразнюхали, что шёлковые абажуры – это признак мещанства, да и повыбрасывали их на помойку, а на освободившееся место понавешали модных люстр. Чтоб, как говорится, не вякали. Ведь он, мещанин, – существо тонкое, деликатное и не любит, когда его всячески обзывают.
«А кто же любит? – позвольте спросить. – Вы, что ли, читатель, любите?»
Хороший мещанин – не какой-нибудь гаврик. Это уже доказано. Он – существо дисциплинированное, послушное. Ему сказано было в своё время, что герань – мещанство… Раз! И где она, эта ваша герань? Теперь хоть сто городов вдоль и поперёк исходи, ни в одном окне не увидишь герани. А что раньше творилось? Ого!
А фарфоровые слоники на комоде? Сказали – мещанство, и всех слоников как корова языком слизнула. У кого их теперь найдёшь? Скорее живого слона увидишь. И канарейка, как говорится, «попела». Где теперь канарейка? Простой чижик и то в диковинку!
Короче говоря, в этой области – только команду дай. Было дело – дали команду насчёт тюлевых занавесок. Фьють – и как корова языком. Всюду плюшевых штор понавешали. Потом пошла команда насчёт плюшевых штор. Фьють – и опять как корова: нет этих рассадников пыли! Потом фьють – и уже обедаем без скатертей. Скоро фьють – и будем спать без простынь. Как корова. Потому как – мещанство!
Словом, нет никого старательнее, никого исполнительнее, никого усерднее, чем самый простой, рядовой, ничем не выдающийся обыватель, сиречь мещанин. Его ко всему приучить можно и от всего отучить. Можно его напугать голубым цветом, и он будет его отовсюду гнать, можно заставить его истребить такой красивый, радующий глаз (и полезный притом) цветок, как герань, и разводить вместо него на окнах уродливые, нелепые кактусы. Нельзя отучить его только спать по ночам на подушке. Но это уже пустяк, не стоящий внимания.
Говорят: мещанин глуп. Дескать, думать не любит. Любит чужим умом жить.
Да уж коли глуп, то зачем думать? Только хуже наделаешь. Значит, умнее – чужим умом. Однако ж если он это понимает, то не такой уж дурак, выходит!
Дурак тот, кто хочет всё вокруг по своему дурацкому образцу устроить. Если же у человека есть жилка самокритичности, то ему уже не откажешь в уме. Мещанин хорошо понимает, что он не семи пядей во лбу. Поэтому и не пытается жить по своему разумению, а тщится, чтоб у него всё было в аккурат, как у других людей.
А у людей как?
У людей всё по моде.
С модой же тоже непросто. Потому что мода теперь на всё: не только на штаны или дамские часики, а и на рюкзаки, унитазы, на кухонную утварь, даже на мебель. А что может хуже новомодной мебели быть! Во-первых, не знаешь, что делать со старой, вышедшей из моды. А во-вторых, она ведь хуже немодной, потому что поди-ка выдумай что-нибудь лучше старого, испытанного, немодного стула с удобной спинкой.
И думаете, мещанин этого не понимает? Понимает, гадюка! Но терпит.
Недавно я был у одного знакомого мещанина. Он очень хороший человек, чуткий, на редкость внимательный. Он не архитектор, но живёт в доме архитекторов (не в Доме архитектора с большой буквы, а, как бы это сказать, в доме, который архитекторы построили для себя).
– Да у тебя всё по моде, – сказал я, заметив, что он сменил обстановку в квартире.
– Чёрт бы побрал эту моду и всех, кто её выдумал! – сердито проворчал он. – Я скоро, кажется, околею от всего этого.
– Что так? – удивился я.
– Никак не могу привыкнуть, – объяснил он. – Вот стол, например. Треугольный зачем-то! Да это чёрт с ним. Но почему такой низенький? К нему только подсядешь, сразу в висках начинает стучать. Или – кресло. На нём ведь вроде как на полу сидишь. Пять минут посидел – и готов: под рёбрами начинает колоть. С него и подняться в двадцать раз трудней, чем с простого человеческого кресла. И это при моей-то подагре в обеих ногах! А спать как? Кровать теперь стала – мещанство! И диван-кровать теперь тоже – мещанство. Теперь тахта – не мещанство. А что такое тахта? Вот, пожалуйста: на полу просто ящик без ножек, на нём пластиковый матрац из трёх секций – и всё. Лёг спать, через полчаса просыпаешься и начинаешь подушку на полу искать. Спинки-то нет, подушку опереть не на что, вот она и выскальзывает из-под головы. За ночь намаешься, наутро, не проспавшись, на работу идёшь. Тяжело! Да и негигиенично. Раньше кровати с ножками делали, чтоб клопам и другой какой нечисти несподручно было взбираться. Оно, конечно, теперь клопов не должно быть, потому как, известное дело, клопы – мещанство, но сами-то клопы пока об этом не знают. Правда, у нас никакой такой живности нет, а вчера просыпаюсь, смотрю – таракан по спине ходит. Не знаю, откуда и забежал. Теперь мне на этой тахте и спать-то боязно. Может быть, ножки приделать?
– Да ты бы оставил кровать, – говорю.
– Так нельзя ж ведь – мещанство! Вот какой человек мещанин. Он всё стерпит, лишь бы не попрекали мещанством. А тут как ни вертись, попрекать будут. Не поспешил выбросить допотопный комод – мещанин! Поспешил купить модный сервант – опять мещанин (за модой гонишься).
А кто же за модой не гонится, позвольте спросить? Разве лишь тот, у кого денег нет. А заведись у него денежки, он сейчас же своё мещанское нутро и покажет. Выглянет, как принято говорить, мурло мещанина. Уж разве он одержимый какой-нибудь. Хобби какое-нибудь у него. Может быть, он старые футбольные мячи собирает. Или на свои личные сбережения решил африканскую обезьяну для научно-исследовательского института купить. Да таких много ли? В том-то и дело, что считаные единицы. А в остальном все люди как люди. Ничто человеческое им не чуждо.
Тут читатель, пожалуй, посчитает себя вправе обидеться. Этак, скажет, и я – мещанин! А что тут плохого, спросим его. Мещанин – не хам, не грубиян, не хулиган, не взломщик, наконец! К тому же кого не называли у нас мещанином? Например, Зощенко. Это он-то, который над мещанами столько смеялся (действительно, ирония судьбы). Или Ильф и Петров. Эти не просто были мещане, а взбесившиеся. Так что ничего в этом особенного нет. Дело житейское.
И потом, что это за мода пошла людей, как какие-нибудь селёдки, по сортам делить?! Этот-де – мещанин, этот – не мещанин. Любит во сне храпеть – мещанин, не любит храпеть – не мещанин. Любит хорошо покушать – мещанин, не любит покушать – нормальный человек. Иной, может быть, и любил бы покушать, да у него желудок больной, а дай ты ему желудок покрепче, он себя ещё как покажет! Да и какую тут можно демаркационную линию провести? Какой предел установить? Съел фунт краковской колбасы – хороший человек, а скушал фунт с четвертью – мещанином стал? Так, что ли? Или кушал без особого удовольствия – не мещанин, а поел с аппетитом – опять в мещанское сословие угодил? С такими критериями и запутаться можно, потому что, бывает, и зернистая икра в рот почему-то не лезет, а иной раз под настроение краюху простого хлеба с удовольствием навернёшь.
Да притом как же так, чтоб совсем без удовольствия есть! Кто может о себе сказать, что он без греха в этом деле? А раз так, то и делить нечего. Как сказал поэт: «Все мы немножко лошади». Вот как! Все – лошади! Все – мещане (конечно, в той или иной мере). Что там и говорить! Тем более что мещанство проявляется не только в грубой материальной сфере, но и в сфере, так сказать, идеальной, нравственной.
Какой основной девиз мещанина в нравственной сфере? Их (то есть этих девизов) несколько, а точнее, десять (как заповедей):
№ 1. Моя хата с краю, я ничего не знаю.
№ 2. Своя рубашка ближе к телу.
№ 3. Я – не я, и лошадь не моя.
№ 4. Держи язык за зубами.
№ 5. Не суйся поперёд батьки в пекло.
№ 6. Что, нам больше всех надо?
№ 7. Держи нос по ветру.
№ 8. Рыба ищет, где глубже, а мещанин – где жирней.
№ 9. После нас хоть потоп.
№ 10. С деньгами и без ума проживём.
Может, думаете, так просто эти заповеди соблюдать? Как бы не так! Возьмём любую, хотя бы № 4, насчёт недержания языка. Пушкин уж до чего умный был, а не умел удержать язык. Не умел, да и всё тут! И Лермонтов не умел! И Радищев, и Герцен, и Николай Гаврилович Чернышевский… Что, им больше всех надо было? Нет ведь! Они люди вполне скромные были, а вот лезли поперёд батьки в пекло… Скажем прямо – плохие мещане были, совсем как есть никудышные!
Да и то сказать, трудно небось найти мещанина, который бы дотошно все эти мещанские заповеди соблюдать мог. Чтоб на все сто, как принято говорить, процентов. Нет-нет да на какой-нибудь и сорвётся. Хотя, правду сказать, и такого едва ли найдёшь, который ни одной заповеди не соблюдал бы. Хоть за какую-нибудь да держится. Будь он даже работник культурного фронта или служитель муз. Разве какой-нибудь художник, деятель, так сказать, изобразительного искусства, у которого, как сказано, нос по ветру да ещё хвост трубой, он, что ли, не лошадь, то бишь – тьфу! – он, что ли, не мещанин? Ему, что ли, своя рубашка не ближе к телу? Он, что ли, лезет, где глубже?.. Или, к примеру, работник критического цеха, наложивший печать молчания на свои уста, у которого всё честь по чести: и язык на привязи, и рот на замке. Тоже не лошадь, скажете? Во всяком случае, от него не больше добьёшься слов, чем от лошади. Правда, иной подобного рода апостол молчания молчит, молчит, да вдруг так разразится, что и не поймёшь сразу, откуда гром: из тучи или… из этой самой… Или, например, наш брат писатель, труженик пера, так сказать, который… впрочем, молчание! Зачем на своих кидаться? Нам тоже не больше всех надо. Слово, как сказал древний философ, – серебро, а молчание – золото.
Мы тоже не против золота, потому скажем только, чтоб завершить мысль, что такой работник культуры, будь он художник, критик или наш брат писатель, он и есть вполне достойный своего сословного звания, вполне идейный (если вам так больше нравится) мещанин, хоть он и не сидит уже с фикусом под цветным абажуром и давно завёл себе модный сервант. По сравнению с ним какая-нибудь старушка пенсионерка, которая и не помышляет о том, чтоб избавиться от своего абажура (денег-то и на еду в обрез), – она просто ноль без палочки, отрицательная величина, её и мещанкой-то как назовёшь! Правда, вид её окошка, освещённого изнутри оранжевым абажуром, вносит диссонанс в общую картину, нарушает, как бы это сказать, гармонию и возбуждает в нас какую-то непонятную злость: дескать, вот оно, мещанство-то, где сидит!