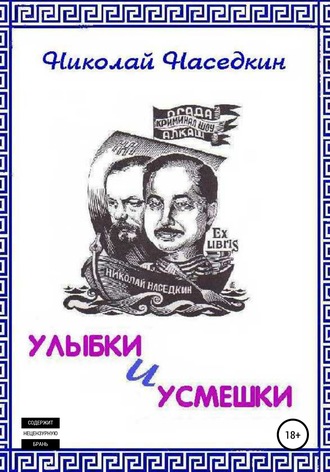
Николай Николаевич Наседкин
Улыбки и усмешки
Любовь и привычка
Любовь! Что только не делает она с человеком? Трусливого превращает во льва, тихоня становится бойким (а чаще – наоборот), умный на глазах глупеет.
С военным же строителем рядовым Мишкиным любовь сотворила худшее, что смогла – сделала его нарушителем воинской дисциплины. Стоило только Мишкину вспомнить огромные глаза Анечки, как он забывал про службу, про уставы и ночь-полночь на дворе, или ясный день, обойдя все препятствия, спешил он в город на свидание со своей «ягодкой». Ему хотелось лишний раз посмотреть на неё, читать ей стихи собственного сочинения…
Одним словом, Мишкин страстно любил Анечку. А Анечка? Анечка тоже любила. Сколько бы она ни говорила: «Петенька, не ходи! Ведь поймают тебя и… и… (тут Анечка всхлипывала)… посадят, и всё из-за меня!» – однако, ни одного свидания не пропустила, даже сердилась, если от Петеньки долго не было записочки, предупреждающей о месте встречи.
Шло время. Или у рядового Мишкина был трудолюбивый ангел-хранитель, или в нём пропадал талант чемпиона по бегу на длинную дистанцию, но так или иначе, а патрулю только раз удалось задержать его, да и то только потому, что, убегая, он выбил у проходящей мимо старушки полный кулёк яблок и пока собирал их, его схватили.
Мишкина на этот раз не было две недели, а точнее пятнадцать дней. Где он был и почему острижен наголо – Анечке при встрече не рассказал, сколько она его ни просила.
В одно ослепительное воскресное утро, когда август демонстрирует всю благодать недолгого забайкальского лета, рядовой Мишкин на гладил форменные брюки, надраил ботинки до хромового блеска, украсил голову новенькой фуражкой и устремился в город. В десять ноль-ноль уведомленная им Анечка должна ждать его около центральной почты.
Хотите верьте, хотите нет, а идти на свидание – огромное удовольствие. Мишкин шёл и напевал от счастья что-то романсоподобное. Ему представлялось, как он подойдёт к ней и скажет ласково: «Анечка!..»
…Анечка в праздничном голубом платье стояла возле почты, поглядывая на миниатюрные часики, и от нетерпения покусывала пунцовые губки. Петенька опаздывал уже на 1 минуту и 36 секунд.
«Что же это? Может, он совсем не придёт? А вдруг уже с другой гуляет где-нибудь по городу?!» Анечка шмыгнула носиком, но в это время из-за угла появился Мишкин. Подпрыгивая от нетерпения, он приближался к ней. Вся грусть Анечки моментально исчезла, и она качнулась навстречу ему, как вдруг…
То, что произошло дальше, никак не хотело укладываться в Анечкиной головке. Лицо Петеньки вдруг как-то странно скособочилось, он скривился, будто увидел не Анечку, а старую Бабу-Ягу, и, резко повернув на 180 градусов, устремился прочь.
– Петенька! – горько охнула Аня и, не видя ничего от слёз, побрела в другую сторону.
Она не хотела ни в чём разбираться, ничего понимать: ясно, что он её разлюбил и шёл не к ней!
Ах, Анечка, Анечка! Вместо того, чтобы плакать, оглянулась бы лучше и увидела двух солдат с повязками на рукавах, которые, выйдя из дверей почты, подозрительно смотрели на удаляющегося Мишкина и устремились за ним. Не оглянулась Анечка, а пошла куда глаза глядят.
А Мишкин на крыльях страха мчался от преследователей. Мелькали удивлённые или сочувственные лица прохожих, ветер свистел в ушах мелодию «Погоня» из кинофильма «Человек-амфибия», фуражка чудом держалась на голове. Патруль стал понемногу отставать.
Но, видимо, ангел-хранитель Мишкина был в самоволке, и судьба сыграла с ним злую шутку: повернув в переулок, он налетел на другой патруль и, естественно, был схвачен.
В комендатуре старший лейтенант махал увольнительной запиской, которую извлекли из кармана Мишкина и кричал:
– Побаловаться захотел?! Поиграть? Отдохни теперь суток десять, будешь знать, как шутить!
А Мишкин? Мишкин никак не мог понять, как это он забыл, что у него есть увольнительная, что он на законном основании спешил на свидание…
Привычка!
Почему я не как все
Сейчас каждый имеет увлечение. Хобби – это модно. Один мой знакомый занимается боксом, приятель собирает бутылки (сдаёт по 12 коп. за штуку), ближайший друг изучает иностранные языки. Только я ничем не занимаюсь, ничего не изучаю. А что, я не как все, что ли? И тогда я решил заочно изучать стенографию.
Пришло первое занятие. Боже мой! Закорючки, крючочки и какие-то выкрючочки! Но взялся за гуж…
Я собрал всю свою волю в кулак (левый) и правой рукой начал выводить стенографические знаки. Через час сам я, стол и тетрадь – всё было мокро от пота, но зато я научился рисовать знак «Б». Занятия с каждым днём шли всё веселее. Я осилил первое задание, второе, третье…
Однажды я принёс учебник с тетрадью в цех (я работаю электриком на заводе), чтобы в часы перекура не тратить времени даром. Перекур начался в 8:00. Я сел за столик, приготовил всё для занятия и…
– Это чё-ё? – удивлённо спросил слесарь Гаечкин.
– Персидский язык изучаю, – пошутил я.
– Ух ты! А зачем?
– Ну как же, каждый современный человек должен знать иностранные языки, вот и я решил персидский знать.
Гаечкин с уважением посмотрел на меня:
– Тижало?
– А ты думал… – скромно ответил я.
На следующем перекуре только я успел написать одно предложение, как на плечо моё навалился токарь Загуляйко:
– Миш, шо это?
– Стенографию я, дядя Борь, учу.
– Как это перевести-то?
– Сокращённая запись слов: стенография. Ясно?
– Дюже ясно, – спихивая меня с табурета, пристроился Загуляйко за стол. – Дак, а каждая… букашка – слово, так я разумею?
– Да, да почти так.
– Ну, а шо я скажу, нарисуешь?
– Конечно.
– Пиши: хидроэлехтростанция.
Я написал. Дядя Боря залился счастливым смехом.
– Вот это да!.. Ну и ну!.. Во учудил!.. Ну-ка, прочитай!
Я прочитал:
– Нет, ты по-стенохрафически читай!
– Дядь Борь, – взмолился я, – это русский! русский! ру-у-усский язык! Только пишется по-другому!
Загуляйко обиделся:
– За дурачка считаешь?
Я плюнул и больше до конца смены тетрадь не раскрывал.
Вечером я пошёл на свидание с Оленькой. Она стояла под часами, глаза её метали молнии.
«Эх, чёрт, и надо же было опоздать!», – подумал я, но Оленька и не взглянула на часы.
– Что ты опять натворил?!
– ???
– Что там за стенография у тебя?!
Оленька вдруг заплакала.
– И вообще знай, мама сказала, что за стенографиста меня не отдаст!
– Олюшка, послушай, я же для себя учу! Ну… хобби у меня…
– А-а-а! – ещё сильней заплакала моя Джульетта. – Или я, или сте… сте… стенографии-ия!
Вы, конечно, догадываетесь, какой выбор я сделал? Смотрю я кругом: один охотой увлекается, другой женился уже на одиннадцатой, третий древнеримский язык изучает…
Только я вот такой… безхоббистый.
Как я сошёл с ума
Меня вызвал начальник. Я, разумеется, явился.
– Сидоров-Иванов? – спрашивает начальник.
– Ага, – говорю, – он.
– Ты, – спрашивает, – слесарем-сантехником у нас числишься?
– Работаю, – поправил я.
– Вчера я тебя в 16:00 искал, не нашёл.
– Я заболел. Могу справку показать.
– А позавчера в 10:27 опять тебя не было!
– Жену на вокзале встречал. Могу билет принести.
– А позапозавчера…
– В военкомат вызывали. Повестка в отделе кадров.
Не унимается начальник:
– До меня слухи дошли…
– Не верьте, – говорю, – врут люди!
– Нет, у меня свидетели есть… что ты в школе стенгазеты рисовал.
– Всё может быть, – глубокомысленно ответил я, а сам думаю: «К чему он клонит?»
– Так вот, дорогой Иванов-Сидоров (Сидоров-Иванов, – поправил я), да, да, дорогой товарищ Сидоров-Иванов, до 7 ноября – неделя!
Я удивился:
– Разве?
Начальник встал и принял торжественную позу:
– ЖКУ доверяет тебе написать праздничный лозунг! Общественное поручение, так сказать. Справишься?
– Но…
– Достанем!
– А…
– Дадим?!
– Так…
– Будет!!!
И я согласился (о, если бы я знал!).
Начальник на своей «Волге» довёз меня до центральной улицы города, где рядом с трибуной были сооружены длинные стенды из фанеры. Все они, кроме одного, были исписаны показателями СМУ, РСУ, ОРСа, ДДТ, АБВ и других организаций. Чистый стенд был приготовлен для меня. Вернее, для ЖКУ.
– Так вот, – объяснил начальник, – задача номер один: загрунтовать фанеру; и задача номер два: написать на ней наши показатели. Ну, давай, и, главное, не робей! Вот кисточка только маловата…
Он поставил на землю ведро с краской цвета «слоновой кости» и вытащил из кармана кисть. Вернее – кисточку. А ещё лучше сказать, кистёночку, потому что была она сантиметра полтора шириной. А стенд – метр двадцать на пятнадцать!
Мне бы, дураку, тут же отказаться, и был бы я сейчас нормальным человеком, но… такой уж у меня деликатный характер.
Я налил в баночку краски и, поплевав на ладони, приступил. Сразу же выяснилось, что придётся красить-грунтовать в два слоя – краска была чересчур жидкой. Я крепче стиснул зубы и ритмично замахал кисточкой. По улице шли прохожие. И тут началось.
Какой-то старикашка с хозяйственной сумкой ехидно прошамкал:
– Шинок, к пашхе поди жакончишь?
Я промолчал. Остановились две дородные дамы:
– Такие большие площади необходимо красить валиком.
Я послал их к чёрту (мысленно) и продолжал работать.
– Надо масляной и в красный цвет, – посоветовал мимоходом субъект в очках с портфелем в руке.
У меня задёргалось левое веко, и начала дрожать правая нога, но я продолжал красить. Плыла мимо парочка:
– Побольше кисть возьми, – посоветовала она и вполголоса добавила, – вот ведь несообразительный!
И я не выдержал!
– Милая девушка, – проворковал я, – вы всегда такая умная или по четвергам только?
Её рыцарь (метр девяносто!) лениво направился в мою сторону:
– Хамишь, парниша!
Когда я очнулся под стендом, левый глаз не открывался совсем, правым я видел мир узким, словно в панораме.
Думаете, я бросил художничать?
Ничего подобного! Назло! Из принципа! Я налил в банку новой краски (старая живописным абстрактным пятном желтела на моих брюках) и продолжал красить. Слышу детский голосок:
– Мама-а, класить хоцю-ю!
И мамин голос:
– Иди, иди, Пусенька, попроси у дяди кисточку.
«Пусенька» начал дёргать меня за штанину:
– Дай класить! Класить дай!..
Я, не вытерпев, повернулся к нему.
– Мальчик!..
Но тут, увидев мою физиономию, маленький троглодит попятился и… сел в ведро с краской!
От «пусенькиной» мамы прохожие узнали, что я хулиган, дурак, идиот, что у меня «не все дома»! Она также хотела, чтобы я «околел», чтобы меня «премии лишили», и чтоб я все праздники «проводил в КПЗ»! Ко всему ещё у меня почти совсем не осталось краски.
Но половина стенда на один раз была уже выкрашена. Я принял таблетку валидола, сделал десять глубоких вздохов и продолжил работу. В течение часа я услышал следующее:
– Дядя, ты краску прямо лей и размазывай чем-нибудь…
– Безобразие, праздник на носу, а они спохватились!..
– Раньше хулиганы улицы мели, а теперь вишь чё придумали!..
– Наказали, наверное, вот горемычный!..
Я начал потихоньку скрипеть зубами и рычать.
– Глянь, руки трясутся – алкоголик!..
– Верка, смотри какие ходули кривые, а ты говорила, у меня кривее всех в городе!..
– Вовочка, если ты не будешь кушать пончик, то будешь таким же тощим и маленьким, как дядя художник!..
– Эдик, секи, какие джинсы фартовые, сине-жёлтые! Кент, где отхватил такие?..
Я повернулся. Сзади стояла толпа и внимательно следила за моей работой.
– Господи, да это рецидивист какой-то! – ахнула невзрачная старушонка.
Толпа шарахнулась, а я побежал.
Меня нашли на железной дороге, где я своей кисточкой красил в жёлтый цвет рельсы магистрали Москва–Владивосток. Помешательство у меня тихое. Часто приходит в палату наш начальник, садится и, положив руку мне на голову, вздыхает:
– Эх, Иванов ты, Иванов-Сидоров, знал бы, что так получится, я бы из-под земли малярный валик достал…
А я в ответ радостно гукаю и пытаюсь раскрашивать его костюм химическим карандашом.
Кошмар
Федя Распашонкин проснулся неожиданно, ночью. Несколько мгновений, не открывая глаз, он размышлял, с чего бы это ему просыпаться, как вдруг услышал всхлипывания. Федя чуть-чуть разомкнул веки и увидел, что молодая жена его Валечка сидит на краю постели и плачет. Со дня их свадьбы прошло уже 2 года 3 месяца и 12 с половиной дней, но Федя, как ни странно, до сих пор ещё был заботливым, любящим мужем.
Он хотел встрепенуться, хотел броситься к Валечке, осушить поцелуями её слёзы и… не встрепенулся, так как то, что он услышал, заледенило кровь в его жилах, заставило сердце остановиться, придавило тяжёлой бетонной плитой к подушке (и все это одновременно!). Валя, его богиня, которую он обещал на руках носить (правда, пока не носил, всё некогда), одним словом, его законная жена сквозь всхлипывания шептала:
– Как он мне надоел! Долго я терпеть бу-у-уду? Боже, зачем я боялась?! Нужно было сразу же решиться!..
Состояние Феди Распашонкина было ужасное. Представляете, услышать от собственной жены, что ты ей надоел, и что она терпеть тебя не может? Кошмар!
Но что-то удерживало Фёдора от крика. Весь обратившись в одно сплошное больное ухо, он ждал.
– Нет, нужно вырвать его! Сил моих больше нет! Пускай мне будет ещё больней, зато потом станет легче!..
«Ага, – подумал Федя, – значит, любит всё же, если так больно ей меня из сердца вырывать?»
Валюша между тем встала с постели и начала ходить по комнате, закрыв лицо руками. Голос стал глуше, но всё равно можно было разобрать, что она шепчет:
– А Феденька спит и ничего не знает… Может, разбудить его? Сказать?.. Нет, пусть спит… Зачем же ему ещё страдать?..
Распашонкин покрылся холодным потом.
«Господи, так она ж не про меня говорит! Значит у неё кто-то есть?! Вернее, был! Будет?! Тьфу!..»
Федя начал чувствовать, что сходит с ума. Всё вдруг стало безразличным-безразличным.
«За что мне такое? Я ли её не любил? Вон даже на рука х носить обеща лся… Нет! Уйду!! Сейчас прямо и уйду!!!»
Федя откинул одеяло, сел на постели и каким-то глухим, не своим голосом произнёс:
– Я всё слышал, Валя… Я пойду!..
Валя бросилась к нему на шею:
– Милый, какой ты заботливый! Но не будем же мы из-за него «скорую» вызывать, а больница сейчас закрыта… – Валя положила свою руку на припухшую щёчку. – Как-нибудь дотерплю до утра, а там соберу всю свою смелость, пойду и вырву…
– Так у тебя болит з-у-у-б?! – вскричал Федя.
– Ну да, – удивлённо ответила Валя.
Федя подхватил жену на руки и закружил по комнате – впервые за 2 года 3 месяца и 12 с половиной дней.
У Вали сразу высохли слёзы и, кажется, перестал болеть зуб.
Подарок
Костя любил Дашу! Костя очень любил Дашу!! Костя боготворил Дашеньку!!! (Представьте силу его чувства!)
Но… он не смел ей об этом сказать… Робким, чересчур робким был наш герой, хотя на работе числился начальником и даже отдавал какие-то приказы.
Но когда Дашенька (его секретарша) входила в кабинет, Костя так густо краснел и делал такие телячьи глаза, что Дашенька, в свою очередь, очень мило краснела и спрашивала:
– Что с вами, Константин Иннокентьевич? Вы опять на одной бумаге четыре раза расписались…
Костя после таких слов совершенно терялся и машинально ставил ещё пять закорючек на той же докладной.
Одним словом, муки, сладкие муки терпел наш герой на работе. А дома в своей холостяцкой неуютной квартире Костя мечтал… О чём? Если б мечты можно было записывать на магнитофон, то на ленте за словом «Дашенька» следовало бы «люблю», а потом можно было бы услышать и про смелость, и про решительность, и про другие подобные вещи, столь необходимые влюблённому человеку.
О чём думала Дашенька, когда своими маленькими пальчиками стучала по клавишам разбитой «Башкирии», нам точно неизвестно, но когда она выходила из кабинета начальника, то в первые полчаса делала обычно очень много ошибок, что наводит на кое-какие мысли…
Приближалось 8 Марта. Ранняя весна заставила потемнеть снег, заголубила небо, оживила воробьёв и плеснула в душу Косте капельку мужества. Он решил на 8 Марта сделать Дашеньке подарок.
Но какой? Воистину гамлетовский вопрос, потому что Костя ещё ни разу в жизни не делал подарки любимой (мы вроде бы упоминали, что это была его первая любовь?). Он решил посоветоваться с замом.
– Егор Павлович, – спросил как бы ненароком Костя, – что вы купили в подарок жене?
– Я-то? Хе-хе… портсигар-зажигалку…
– Что, что?! Мария Фёдоровна разве курит?
– Нет, конечно, просто у нас договор такой, чтоб не ошибиться… Она мне к Дню Советской Армии термобигуди подарила!
– Ясно, – сказал Костя и пошёл искать главбуха. – Пётр Петрович, вы что жене на Восьмое марта подарить хотите?
Пётр Петрович огляделся по сторонам и шепнул начальнику на ухо:
– Достал импортный подарочек: чулки французские «сеточка» и этот… как его… ну с бретельками… польский!
Костя представил, как дарит Дашеньке «этот… с бретельками» и зарделся, словно красна девица. Вмешался в разговор помзамглавбуха Фёдор Иванович:
– А я так своей коньяк «Шан те флю» купил! Да-а-авно мечтал попробовать!
– А мне, – дрожащим голосом признался Николай Глебыч, – моя Анастасия Кекиморовна приказала путёвку за границу подарить, а финансов не хватает… Может?..
Костя пообещал Глебычу завтра дать взаймы денег и пошёл к себе в кабинет. Он сидел, слушал грохот «Башкирии», мучительно думал и – эврика! Нашёл!!
Он побежал к начальнику треста…
* * *
Придя накануне праздника на работу, Дашенька увидела, что машинка «Башкирия» исчезла, а на её месте стоит новенькая электрическая «Оптима», и в каретке белеет листок. Конечно же, это признание в любви! Дашенька схватила листок:
«Поздравляю Вас с праздником! Желаю на “Оптиме” делать меньше ошибок!»
Костя, затаив дыхание, прислушивался, и вдруг сквозь двери донеслись всхлипывания. Он выскочил в приёмную.
Дашенька повернула к нему заплаканные голубые глазки и отчаянно крикнула:
– А я буду! Буду!! Буду!!! Делать ошибки! Обязательно буду! Назло вам буду!
– Я люблю вас, Дашенька! – несколько невпопад брякнул Костя.
И вот тут случилось то, над чем стоит задуматься учёным: слёзы у Дашеньки моментально высохли.
– Правда? – тихо прошептала она…
В понедельник 8-е Марта Дашенька и Костя будут отмечать вместе – это мы вам гарантируем.
Вот так кончается любовь…
Его имя – Дормидонт. Друзья для удобства зовут его Дориком, а иногда, смотря по настроению, меняют «о», на «у», что звучит не очень-то… Но это неважно.
Важно то, что однажды студент Дормидонт стоял в очереди за деликатесом в пряностях, именуемой килькой, и высчитывал, сколько её купить, чтобы хватило до стипендии.
– Кто крайний? – послышалось сзади.
Дорик обернулся и увидел – Барбару Брыльску!
– Он… то есть мы… вернее, я… – вразумительно ответил Дормидонт и потерял себя, а может, сознание.
Короче, что-то потерял, хотя и оставался на ногах. Он недавно смотрел «Анатомию любви», и Барбара Брыльска стала часто сниться ему по ночам. Почему – наверное, объяснять не нужно.
Когда подошла его очередь, Дормидонт сказал:
– Мне триста граммов «пошехонского» сыра, полкило «краковской» колбасы и…
Тут он очнулся, потому что в кармане лежало всего 4 рубля 29 копеек в мелких купюрах. Расплатиться, к счастью, хватило, и Дорик выполз (не в прямом, конечно, смысле) на улицу.
Свежий мартовский ветер охладил его голову, и он здраво подумал:
«Во-первых, что делает Барбара в нашем Крюшонске? Во-вторых, почему она говорит по-русски? И, в-третьих, Брыльска она или не Брыльска, а я должен с ней познакомиться. Вперёд!»
Только он принял это геройское решение, как она вышла из магазина. Должен признаться, Дормидонт был довольно-таки решительным человеком – он бросился к ней, схватился за сумку (большая, хозяйственная) и предложил:
– Разрешите вам помочь?
Она нахмурилась, надменно вздёрнула бровки, но, посмотрев в детски невинные серые глазищи Дорика, сказала:
– Пожалуйста, только мне далеко.
– Это замечательно! – чересчур восторженно крикнул Дорик и, положив свой «пошехонский» и свою «краковскую» в её сумку, устремился вперёд.
О чем они говорили, подслушать было невозможно, и как Дормидонт ей представился – тоже неизвестно. Но она почему-то называла его Эдуардом, а он один раз обратился к ней громко:
– Надя!
Надежда жила в большом доме на шестом этаже, в 23-й квартире. У дверей она остановилась и смущённо сказала:
– Вы, Эдуард, извините, у меня такая маменька строгая, прямо ужас…
Дормидонт намёк понял и, распрощавшись, полетел на крыльях любви к себе в общежитие.
Только на следующий день до Дурика (ну как его ещё назвать?) дошло, что он не назначил Наде свидание. День он не ел. На второй не ел и не пил. (Сыр и колбаса висели за окном в авоське.). А на третий не выдержал и пошёл…
Дормидонт стоял на площадке перед 23-й квартирой и взвешивал все «за» и «против»: позвонить – не позвонить? Она выйдет или «маменька»? Внизу хлопнула дверь подъезда, и кто-то стал подниматься по лестнице.
«Только этот человек пройдёт, и я позвоню», – решил Дорик.
Показался парнишка с гаечными ключами в руках и шахтёрским фонарём через плечо, вероятно, сантехник. Дормидонта осенила блестящая идея: а что если?..
– Слушай, – остановил он паренька, – ты в какую квартиру идёшь?
– В двадцать седьмую, – ответил тот.
– Парень, – Дорик сделал страшное лицо, – дай на пять минут твоё снаряжение, во как надо!
– Так… я это… – замялся было сантехник, но Дормидонт уже ласково снимал с его плеча фонарь.
План был гениально прост: если откроет Надя, то дальнейшее ясно, а если кто из родителей, то Дормидонт извинится и вся недолга…
Вскоре после звонка в двери загремел ключ. Дорик прикрыл шарфиком галстук. Ярко накрашенная дородная женщина в халате удивлённо смотрела на него.
– Сантехника не вызывали? – скороговоркой промямлил Дорик и приготовился ретироваться.
Каков же был его ужас, когда женщина за рукав решительно втащила его в квартиру и плотно прикрыла дверь.
– Давно уж вызываем, да без толку! Из батареи капает месяц целый!
Дормидонт покорно поплёлся вслед за женщиной, не надеясь на спасение. Она втолкнула его в комнату, где на стене висел портрет Нади, и торжествующе указала:
– Вот!
В том месте, где труба входит в радиатор (или наоборот – выходит?), сочилась вода и звонко шлёпалась в стеклянную банку. Дорик с глубокомысленным видом потрогал гайку и… обжёг руку. Самое неприятное во всей этой истории было то, что Надина «маменька» стояла у него за спиной, ожидая решительных действий.
«Где же Надя-то?» – с тоской подумал Дормидонт и осветил гайку фонарём. Несколько минут он освещал радиатор, гайку, трубу (в окно лились потоки солнца), мучительно придумывая, что предпринять.
«Если логически мыслить, то раз течёт между гайкой и батареей, значит ослабла гайка…»
Дормидонт приладил ключ и сдвинул гайку с места… Ему показалось, что лопнула труба – кипяток свистя, хрипя и шипя вырвался из темницы и устремился на Дурика, «маменьку» и на мебель.
Дормидонт смело бросился… к двери. Заперта! Франко-канадо-английский замок никак не хотел открываться! Дорик приладил газовый ключ – хрясь! – и выскочил на площадку.
– Трубу разорвало!!!
Парнишка с секунду разглядывал его поглупевшую физиономию, выхватил инструмент, бросился в квартиру, через мгновение выскочил и побежал вниз.
«Хана! – подумал Дормидонт. – Если этот убежал, то что мне остаётся?»
Но он сдержался, набрал полную грудь воздуха и шагнул за двери. Сейчас телом ляжет на радиатор, пусть ошпарится, умрёт, но зато никто больше не пострадает! Где-то в глубине квартиры голосила «маменька» («Не застраховано!», – разобрал Дормидонт).
Вода в комнате покрывала уже весь пол, из-за пара в двух шагах ничего не было видно.
И вдруг шипение прекратилось!
«Неужели вода кончилась?» – подумал Дорик, но тут вошёл сантехник.
– Эх ты… хохма! – бросил он в его сторону и стал копаться в радиаторе.
Дормидонт малодушно смолчал и бочком начал пробираться к двери. Самое страшным было сейчас – встретиться с «маменькой».
Он открыл дверь подъезда и увидел Надю. Она прощалась с парнем. Дурик захлопнул дверь, юркнул в подвал и, мокрый, просидел там час тридцать семь минут, пока Надя не зашла в дом.
В общежитии, в своей комнате, окоченевший Дормидонт нарезал «пошехонского» сыру, «краковской» колбасы и закатил пир.
– А всё же, как она походит на Барбару Брыльску! – проговорил он вслух и немного погодя подумал:
«Надо где-то рубль до стипендии перехватить – на кильку…»







