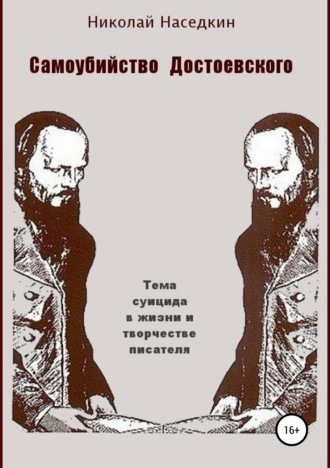
Николай Николаевич Наседкин
Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и творчестве писателя
В отчаянии Голядкин остановился, навалился на перила набережной «и пристально стал смотреть на мутную, чёрную воду Фонтанки…» А что в природе творится! С небес падает-льётся снег пополам с дождём, воет ноябрьский ветер, сырой туман клубится. Придавленный, убитый катастрофой, униженный и оскорблённый, стоит амбициозный полупомешанный титулярный советник на мосту и смотрит, смотрит, смотрит в тёмную притягательную воду. О чём он думает? На что решается? «…в это мгновение господин Голядкин дошёл до такого отчаяния, так был истерзан, так был измучен, до того изнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что позабыл обо всём… Что ж в самом деле? ведь ему было всё равно: дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано; что ж ему?..»
Как видим, мысли путанные, смысл неясен: какое дело сделано? Какое решение принято?.. Да ведь, вероятнее всего, Яков Петрович решился разом покончить со всей этой обрушившейся на него позорной катастрофой, раздавить весь постылый и враждебный мир за один раз. Если внутри, в душе такое слякотное состояние, а вокруг такая мерзкая осенняя слякоть, то в воде-то, в реке, может, оно и покойнее будет?..
«Вдруг… вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону…» Что же случилось, что спасло Голядкина в самую последнюю минуту от самоубийства? А спас его, как ни странно это звучит, резкий прогресс в его психопатическом состоянии: именно в этот момент и началось раздвоение личности господина Голядкина. Именно в этот миг ему впервые почудилось, будто рядом с ним, точно так же облокотясь на перила, кто-то стоял и «даже что-то сказал ему, что-то скоро сказал, обрывисто, не совсем понятно, но о чём-то весьма к нему близком, до него относящемся». Нетрудно предположить, что мог сказать-шепнуть Голядкин 2-й Голядкину 1-му: бросайся, милый, в воду, кончай свои мучения разом – ей-Богу, сей жизненный спектакль не стоит свечей!.. Но бедный Голядкин испугался не слов своего двойника, а именно такого внезапного явления его и отскочил от перил. По известной поговорке «клин клином вышибают» у господина Голядкина одна болезнь (прогрессирующее сумасшествие) одолела, стушевала, подавила другую – влечение к суициду. И, к слову, зачастую вообще самое лучшее лекарство в самый последний момент от самоубийства – душевное потрясение. И безразлично какое – положительное или отрицательное: радость или ещё большее горе, испуг или гнев, жаркий поцелуй любимой или нападение грабителя, свалившееся на голову миллионное наследство или, наконец, внезапный арест…
В 1847 году Достоевский пишет и публикует в «Отечественных записках» повесть «Хозяйка». Писал он её с жаром и вдохновением, считал-надеялся, что выйдет нечто даже лучше «Бедных людей» (предыдущие произведения – «Роман в девяти письмах» и «Господин Прохарчин» – автор и сам, вслед за критиками, посчитал неудавшимися), однако ж литературный мэтр Белинский оценил «Хозяйку» крайне отрицательно, объявив, что молодой писатель вздумал здесь помирить Марлинского с Гофманом и получилась ерунда страшная и непонятная[62]. Белинский, которому не суждено было узнать весь творческий путь гения, не мог, конечно, заметить, что в этой ранней повести впервые появился у него тип мечтателя (Ордынов) – характерный тип человека, чрезвычайно, стоит подчеркнуть, предрасположенный к самоубийству. И герой «Хозяйки» не только мечтатель-романтик, как, к примеру, герой «Белых ночей». Л. П. Гроссман вполне справедливо замечает: «По своей типичной сущности Ордынов – предвестник Раскольникова. Перед нами одинокий, одичавший в своём уединении мыслитель…»[63]
Уточним и дополним: в Ордынове можно усмотреть и штрихи-намётки подпольного типа, тоже одного из капитальнейших в мире Достоевского. Впрочем, в этом мире все подпольные герои – мечтатели; а все мечтатели – подпольные. Вот и Ордынов, закончив курс в университете и получив малую толику грошового наследства, снял первый попавшийся угол и на два года забился-залёг в нём, как в подполье. Правда, Достоевский, ещё, разумеется, и не предполагавший, что через полтора десятка лет напишет-создаст «Записки из подполья», только обозначил-назвал в «Хозяйке» целое громадное явление русской действительности и одну из основополагающих черт, как мы сейчас красиво выражаемся, менталитета русского думающего человека – подпольность и пояснил это на примере Ордынова так: «Там (В своём углу. – Н. Н.) он как будто заперся в монастыре, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно…»
Конечно, у Ордынова ещё и в помине нет подпольной философской идеи-платформы героя «Записок…», как нет и стремления в своём «монастырском» уединении (как в будущем, допустим, у Алёши Карамазова в настоящем монастыре) найти душевный покой, обрести истинную веру, познать мир Божий и себя в этом мире. Ордынова всего лишь пожирала и требовала уединения всепоглощающая страсть к науке. К какой конкретно – понять из текста повести трудно: что-то похожее на философию, а может быть, даже и на социологию, политэкономию или что-то в этом роде. Именно в период работы над повестью Достоевский и начал посещать кружок Петрашевского, так что немудрено, если герой его в своём подполье-«монастыре» вслед за Фурье, Оуэном и Сен-Симоном вынашивал-создавал свою теорию социального переустройства мира. «Он сам создавал себе систему; она выживалась в нём годами, и в душе его уже мало-помалу восставал ещё темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощённой в новую, просветлённую форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он ещё робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность её: творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был ещё далёк, может быть, очень далёк, может быть, совсем невозможен!..»
В конце повести будет упомянуто, что в самое последнее время, перед тем, как выйти из подполья, Ордынов в «нетворческие минуты», то есть для отдыха, писал ещё и некое сочинение по истории церкви.
И вот этот подпольный мечтатель-утопист, вынужденный в силу обстоятельств переменить квартиру, как бы очнулся, ожил и мгновенно, забыв о мировых проблемах, заболел проблемами эгоистично-личными. Он влюбился страстно, безумно и – вот именно! – болезненно в молодую жену хозяина новой квартиры старика Мурина – Катерину. Вернее, он влюбился в неё ещё раньше, увидев-встретив совсем случайно в церкви, и именно из-за неё, преодолев сопротивление Мурина, снял у них угол.
С «неистовым Виссарионом» можно согласиться в том, что в «Хозяйке» действительно чересчур много непонятного, туманного, таинственного и необъяснённого. Но одно можно сказать твёрдо: восторженно-мечтательный Ордынов тоже, как и герой «Двойника», – ярко выраженный неврастеник, то и дело подумывает о самоубийстве, близок к нему. Только лишь перебравшись на новую квартиру и ещё не зная совершенно будет ли безответной или, наоборот, взаимной его любовь, он уже заранее восклицает про себя: «Нет, лучше смерть… лучше смерть…» И надо добавить, что он к тому же по-настоящему, так сказать, телесно заболевает в тот момент: у него озноб и жар, страшное сердцебиение, губы его воспалены…
Но вот какова парадоксальность натуры Ордынова: ему хочется немедленно умереть (давайте уж скажем – самоубиться!) и от предельного счастья, и от предельного горя – и от разделённой любви, и от несчастной. Полуочнувшись на мгновение об болезненного бреда, он вдруг видит над собою лицо той, о которой он только что мечтал-бредил в горячечном забытьи. Более того, Катерина склонилась над ним с нежною заботливостью, её ласковая рука лежит на его воспалённом лбу, лицо её прекрасное омочено слезами сострадания и более чем «материнского» участия… Какие же мысли-чувства обуревают в сей сладостный момент восторженного Ордынова? Он хочет поблагодарить прекрасную «хозяйку», хочет взять её за руку, он хочет эту ручку «поднести к запёкшимся губам своим, омочить её слезами и целовать, целовать целую вечность…» Он хочет, в конце концов, многое, очень многое сказать Катерине, но… Ни единое из этих в общем-то простых, естественных и вполне доступных желаний Ордынов в жизнь не претворяет. Зато вдруг все эти мысли-желания умаляет-поглощает одна и совершенно чудовищная: «…ему захотелось умереть в эту минуту».
И абсолютно та же мысль-идея и точь-в-точь в тех же словах стучит-пульсирует в воспалённом мозгу Ордынова, когда он, спустя время, вынужден навсегда расстаться с любимой и полюбившей его Катериной, съехать с квартиры: «Он не мог вынести более; он был как убитый; сознание его цепенело. … Ему хотелось умереть в эту минуту…» Стоит добавить, что, когда Катерина в первый раз поцеловала его в губы – «как будто ножом ударили его в сердце…» Что и говорить – довольно странные ассоциации!
Если у мечтателя Ордынова стремление к самоубийству носит всё же весьма отвлечённо-романтический и несколько абстрактный характер, то другой персонаж повести – Мурин – оказывался в своей жизни-судьбе буквально на волосок от добровольной гибели. Некогда он был чрезвычайно богатым купцом, но внезапно разорился, что привело его не то что к неврастении, а уж к настоящим приступам полного сумасшествия. Вот в одном из таких припадков он и бросился убивать своего хорошего товарища, молодого купца, а когда очнулся и узнал о случившемся – «готов был лишить себя жизни». Неизвестно, что остановило-образумило Мурина от этого рокового шага, скорее всего, уже тогда ярко выраженная страстная набожность, только кончать с собою он не стал, а вместо этого подверг сам себя строгому церковному наказанию – несколько лет находился под покаянием. Кстати сказать, это типичный пример, когда самоубийство (желание его) является как бы формой самоказни за совершённое преступление, и не менее типичный пример, когда истинно верующий человек находит в себе силы отказаться от бунта против Бога, от роли человеко-Бога, самолично решающего свою судьбу. Тема эта наиболее скрупулёзно и всеобъемлюще будет исследована-показана Достоевским позже в «Бесах», в образе-судьбе Кириллова…
Впрочем, не будем забегать вперёд и покончим с Муриным. А этот таинственный Мурин, при всей своей набожности превратившийся под старость лет по сути в колдуна-ведуна, словно позабыл, как чуть было не стал в молодости убийцей. В припадке ревности, который через мгновение превратился в припадок падучей (эта болезнь через несколько лет станет главной болезнью Достоевского), он стреляет в Ордынова из ружья, но, к счастью, промахивается. А потом, некоторое время спустя, уговаривая Ордынова съехать с квартиры и оставить в покое якобы помешанную Катерину навсегда, Мурин, опять же словно запамятовав, как чуть было не стал самоубийцей когда-то и забыв о страхе Божием, вновь выставляет собственную добровольную смерть в качестве последнего аргумента в разговоре-споре с Ордыновым: мол, если тот заберёт-уведёт у него Катерину, ему, Мурину, тогда «что ж делать, в петлю лезть, что ли?..»
В конце концов, Ордынов на себя такого греха не берёт, смерть Мурина ему ни к чему (хотя, к слову, был момент, когда он явно возжелал зарезать опьяневшего и уснувшего Мурина, уже и нож схватил, да муж Катерины вовремя очнулся), с квартиры он съезжает, впадает в тоску и, как уже говорилось, в голове его начинают роиться мысли о внезапной и столь желанной смерти. Вероятно, спасла Ордынова, как некогда и Мурина, вера, религия, обострившаяся в нём истовая набожность – он целые часы проводит в церкви, молится до полного изнеможения, вымаливает у Бога душевного спокойствия и дарования сил пережить-выдюжить разлуку с любимой и тяжесть одиночества…
5
А вот героя следующего крупного произведения Достоевского (после ряда небольших рассказов) – сентиментального романа «Белые ночи» (1848) – от самоубийства спасает… мечтательство. Да, то самое мечтательство, которое способно довести иного замечтавшегося романтика до суицидного шага, в иных случаях именно удерживает-спасает бедолагу от петли, воды или пули, одурманивая его мозг, словно наркотиком, всё новыми и новыми волнами розового тумана.
Больше всего герой повести боится утратить способность мечтать, он страшится реальности, своего безотрадного будущего. Ещё едва только встретившись-познакомившись с Настенькой, он выплёскивает-выдаёт в разговоре с нею свой страх: «Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем – опять одиночество, опять эта затхлая ненужная (Подчеркнём. – Н. Н.) жизнь…» И далее Мечтатель вдохновенно выдаёт Настеньке целую поэму-импровизацию о мечтательстве, заменившем, подменившем и заслонившем для него реальную убогую действительность. И он признаётся, что после таких «фантастических (мечтательных) ночей» на него находят «минуты отрезвления, которые ужасны», он с тоской осознаёт, что фантазия его со временем истощается, устаёт, и впереди его неизбежно ждёт мрачный конец: «Ещё пройдут годы, и за ними придёт угрюмое одиночество, придёт с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние…»
Уж разумеется, Мечтатель не всё договаривает, но можно догадаться, что не раз и не два в минуты жестокого ужасного отрезвления от мечтаний он задумывался всерьёз: а стоит ли ждать, когда фантазия его окончательно истощится, и он останется один на один с невыносимой тоскливой действительностью?.. По крайней мере, в словах его, вырвавшихся в первую же встречу с Настенькой, звучит вполне определённый намёк на это: «Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почём знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения… … Ну, да я вам завтра всё расскажу, вы всё узнаете, всё…» Назавтра-то Мечтатель и рассказывает Настеньке про такие ужасные «минуты отрезвления», наступавшие после часов, после ночей сладких фантазий.
Между прочим, Настенька своей чуткой женской душой что-то чувствует, улавливает, догадывается, до каких мрачно-тяжёлых депрессивных крайностей доходит порою в мыслях её новый друг-знакомый. Даже больше того, она предполагает, что Мечтатель и в других наклонен видеть-подозревать стремление искать выход из жизненного тупика в самоубийстве. В повести есть такой эпизод («Ночь четвёртая»): любимый Настеньки, её жених-студент, не ответил на её письмо. Девушка в отчаянии, она плачет – он её забыл, разлюбил, бросил, предал! Мечтатель, сам уже жарко влюблённый в Настеньку, но, тем не менее, добровольно и добросовестно исполняющий роль посредника-почтальона между нею и женихом, пытается её успокоить, но, вероятно, таким напряжённо-испуганным тоном, с таким гипертревожным видом, что Настенька невольно вскрикивает: «Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слёзы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..»
Настенька, конечно же и слава Богу, не утопится, ибо жених вернётся, все недоразумения разрешатся и впереди – свадьба. Счастливая сверх меры и наивная Настенька даже имеет чисто женское жестокосердие просить в прощальном письме Мечтателя, чтобы он любил её по-прежнему и даже приходил к ним в дом, так сказать, просто в гости, на чай…
Соглашается на дальнейшую жизнь и наш герой-романтик. Он даже представляет себе, каким будет-станет через пятнадцать лет – «постаревшим, в той же комнате, так же одиноким…» Но он уже знает, что мечтательство поможет ему, поддержит его, и конкретно – воспоминания об этих четырёх чудесных белых ночах, об этом пылком сентиментальном романе с Настенькой. Эти четыре необыкновенные ночи сжались-сконцентрировались для него в целую «минуту блаженства и счастия», которая теперь словно фантастический какой-то, неиссякаемый источник энергии будет поддерживать существование Мечтателя долгие годы. «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»
Вопрос, конечно, риторический и для Мечтателя-героя, и для мечтателя-автора.
Совсем неудивительно, что, начиная работу над следующим и самым на тот период объёмным по замыслу произведением – романом «Неточка Незванова», – Достоевский довольно значительную роль отводит герою-мечтателю Оврову. Однако ж, вскоре уже писатель от первоначального варианта отказывается, и образ Оврова отходит на второй и даже десятый план. Но мечтательство как образ жизни и смысл существования присущ многим персонажам этого произведения в той или иной мере и в разных проявлениях. К сожалению, роман так и остался незавершённым из-за ареста Достоевского в апреле 1849 года, нам осталась неизвестной взрослая часть жизни Неточки Незвановой, но вот судьба отчима её, Ефимова, развёрнута-обрисована полностью от начала и до трагического конца. И именно для нашего разговора о самоубийстве судьба этого героя и он сам как раз и представляют чрезвычайный интерес. Особенно ещё и потому, что герой этот наделён творческим началом. Можно смело предположить, что в судьбе Ефимова писатель как бы проиграл-вообразил на перспективу собственную свою судьбу в самом её худшем, самоубийственном, варианте. Опасения, страхи, тревоги молодого Достоевского за своё литературное будущее, свою творческую карьеру, сомнения в том, хватит ли у него таланта, сил, воли, упорства и уверенности в себе, дабы сказать своё – новое – слово в литературе, – вот материал, из которого лепился-создавался Ефимов, писалась-придумывалась его биография-судьба творца, человека творческого.
Притом, Достоевский в полном смысле слова испытал драму Ефимова во всей её тяжести: после оглушительного успеха «Бедных людей», после общего хора восторгов, после панегириков самого Белинского, после сладких эпитетов «громадный талант» и даже «гений», после того, как он уже вообразил-поверил, что добился полного успеха и впереди одна только слава, после всего этого вдруг – насмешки, злобные эпиграммы, прозвище «литературного прыща», улюлюканье «сотоварищей» и уничижительный приговор того же Белинского. К тому же Достоевский, с его мнительным, вспыльчивым и неврастеническим характером, склонен был всё преувеличивать и воспринимать болезненнее, чем оно того стоило. По крайней мере, печатно Белинский весьма деликатно критиковал молодого писателя лишь за неумение совладать со своим художественным даром и ни в коем случае сомнений в его таланте не высказывал. Более того, и в приватных разговорах суровый критик выражал не раздражение или насмешку, а – тревогу за творческую будущность начинающего романиста. Так, в доме Панаевых, за картами, он как-то заметил: «Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдёт вперёд…»[64] Но ведь эти слова тютелька в тютельку подходят и к Ефимову, в его-то судьбе они как раз оправдались совершенно и полностью.
Ефимов – музыкант, скрипач. У него действительно были в юности задатки, обнаружилась искра Божья, перед ним открывалась возможность проявить себя, достичь высот, прославиться, но… Но сам же Ефимов первым в себе, в своём таланте и усомнился. Он испугался, что не справится, не сможет, не потянет – не сыграет обещанную ему судьбой роль гения. А он внутренне убеждён, он уверен в своей гениальности (вполне простительная слабость каждого творца!), он считает, что стоит ему только всерьёз, в полную силу взяться за скрипку…
Увы, герой выбирает самый лёгкий и погибельный для любого художника путь – мечтательство. Мечтательство как самообман. «Он мечтатель; он думает, что вдруг, каким-то чудом, за один раз станет знаменитейшим человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil[6], как будто Цезарем можно сделаться так, вдруг, в один миг. … он всё-таки уверен, что он первый музыкант во всём мире. Уверьте его, что он не артист, и я вам говорю, что он умрёт на месте как поражённый громом…»
Конечно, слова эти о моментальной смерти употреблены персонажем Б., хорошо знавшим Ефимова, в переносном смысле, образно, отвлечённо, но этот Б. и сам не подозревал, насколько он был близок к истине. Ефимов услышал игру гениального скрипача-гастролёра С—ца и – произошло полное крушение всех его мечтаний: окончательно и бесповоротно Ефимов убедился-уверился, что талант свой и жизнь свою он пропил-просвистал, и что никакой он не гений и впереди лишь безобразная пьяная похмельная старость в безызвестности и беспросветной нищете. Мозг его не выдержал этого, сознание помутилось. Началась агония самоубийцы.
Не исключено, что это он в прямом смысле слова убил-задушил мать Неточки. Сцена написана туманно, полунамёками, сквозь болезненное восприятие полусонной девочки, но, по крайней мере, сам Ефимов, чувствуя-осознавая себя убийцей, оправдывается перед Неточкой, показывая на труп её матери: « — Это не я, Неточка, не я… Слышишь, не я; я не виноват в этом…» Он в затмении чуть было не убивает и Неточку и лишь в последнее мгновение очнулся-спохватился, опустил занесённую для страшного удара скрипку.
И вот обезумевший отчим и больная падчерица выбегают из мрачной затхлой своей квартиры, где остывает труп жены и матери, чтобы устремиться куда-то далеко, навстречу новой, светлой, счастливой жизни (они оба мечтали об этом давно, особенно – Неточка); ведь где-то же есть эта светлая счастливая жизнь! Как это зачастую и бывает у Достоевского, петербургские улицы мрачны и донельзя неуютны: промозгло, холодно, идёт мокрый снег… И вот через четверть часа как бы целеустремлённой ходьбы (а они идут молча, отчим, судорожно поддёргивая под мышку футляр со скрипкой, упорно о чём-то думает), Ефимов вдруг сворачивает с тротуара к берегу канавы и садится на тумбу. Вода канавы закована грязным льдом, но особо отмечается: «В двух шагах от нас была прорубь…» Это Неточка невольно отметила-запомнила, случайно, однако ж вполне можно предположить, что упорно думающий о чём-то Ефимов остановился и сел «в двух шагах» от проруби совсем не случайно. По существу, это был уже «живой труп», мертвец, остатками сознания он понимал, что жизнь его кончилась-оборвалась. А здесь – прорубь рядом, притягательная глубь тёмной воды, вечное упокоение… Вот только девчонка мешает!
Хитрому, как и все сумасшедшие, отчиму удаётся уговорить Неточку, чтобы она побежала назад домой и позвала соседей к телу матери, а потом вернулась. Но у него не хватило терпения дождаться, пока она свернёт за угол, он уже не в состоянии ждать, тянуть волынку, он вскакивает, он бежит прочь – скорее, скорее избавиться от привязчивой девчонки! В Петербурге, на его реках и канавах, ещё много других прорубей!..
Конечно, досочинять-фантазировать за Достоевского было бы странно, но в контексте повествования суицидальное направление мыслей Ефимова прочитывается вполне. Судьба распорядилась так, что у бедняги припадок иступлённого помешательства обострился, он совершенно потерял власть над собой, своими поступками, попал в больницу, где и умер как бы своей собственной смертью. Но ещё и ещё раз стоит подчеркнуть: Ефимов – самый настоящий самоубийца. Самоубийца своего таланта, своей судьбы и, в конечном счёте, – своей жизни…
В первоначальном, журнальном, варианте начала «Неточки Незвановой» был ещё такой персонаж – сирота Ларенька, о нём уже упоминалось ранее. Так вот, этого маленького мальчика терзала навязчивая идея – как-нибудь вот так взять, да и умереть внезапно. По ночам к нему является его умершая маменька, ласкает-голубит его, после чего Ларенька просыпается и начинает мечтать о смерти. А жизнь у бедного сиротки в княжеском доме, и вправду, невыносима: его мучают французской грамматикой, а огромный хозяйский дог Фальстафка его ненавидит и «поклялся и дал себе честное благородное слово скушать когда-нибудь бедного Ларю вместо завтрака», к тому же старуха княжна, будто бы, его ненавидит… Нам, взрослым, такие заботы-тревоги кажутся почти смешными, но мальчонка буквально заболевает от них. Одним словом, Ларя твёрдо решил «бежать на могилку к своей маменьке, чтоб там умереть…»
В конце концов, добрый князь по совету докторов отправил впечатлительного мальчика из гнилого мрачного Петербурга к родственниками в солнечную Малороссию и тот остался жив. Надо полагать, кой-какие детские воспоминания Достоевского отразились в образе и судьбе этого маленького героя: самого Федю когда-то мучили если не французской грамматикой, то латынью…
Итак, подведём кое-какие предварительные итоги. В первом – докаторжном – периоде своей жизни, в начале литературной карьеры Достоевский весьма часто думает-упоминает о самоубийстве и в повседневной жизни, и в творчестве. В итоге он создаёт образ Ефимова, и в судьбе его исследует-рисует самый для себя страшный вид суицида – творческое самоубийство, которое, в свою очередь, приводит или к умопомешательству, или к самоубийству физическому. Достоевский многое понял и решил-определил для себя, сочиняя историю-судьбу Ефимова, избавлялся, вероятно, от определённых комплексов и страхов, но и понимал, что находится только в самом начале исследования капитальной темы – темы добровольного ухода человека из жизни.
Темы самоубийства.
Ну, разумеется, пора наконец объясниться и по поводу заглавия данного раздела. Хотя первая его часть, вероятно, вопросов не вызывает: обыгран заголовок произведения писателя, созданного им в Петропавловской крепости, и обыгран вполне обосновано – Достоевский, с самых юных лет поставивший себе целью сделаться писателем и сумевший несмотря ни на какие препятствия добиться этого, действительно, – герой. А вот перл «первый дебют», напомним, принадлежит перу Белинского. Как известно, в иноземных языках наш великий критик был не особо сведущ, поэтому и допустил, казалось бы, досадную тавтологию. Полностью это суждение «неистового Виссариона» выглядит так: «Нельзя не согласиться, что для первого дебюта «Бедные люди» и, непосредственно за ними, «Двойник» – произведения необыкновенного размера и что так ещё никто не начинал из русских писателей…»[65] Но если вдуматься, то в данном случае с пресловутым «маслом масляным», может быть, и нет ничего общего. Вообще, в отношении Достоевского даже оговорки критиков порой получают особый многознаменательный смысл. Ведь, действительно, писателю предначертано было Судьбой пережить и как бы второе рождение, и как бы во второй раз дебютировать в литературе…
Но прежде предстояло ему совершить хождение в Мёртвый дом.







