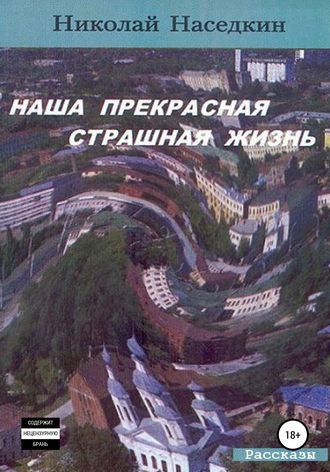
Николай Николаевич Наседкин
Наша прекрасная страшная жизнь. Рассказы
АСФИКСИЯ
Рассказ
1
Ночной звонок в дверь всегда не к добру.
К тому же вечер выдался бурным, семейно-скандальным. Хотя – при чём же здесь «семейно»? Просто скандальным. С бывшей женой Михаил Борисович никак не мог разменяться-разъехаться, так что и после развода уже третий месяц продолжали жить под одним потолком и по привычке ссориться-ругаться, как прежде. Накануне Михаил Борисович пришёл домой уже в первом часу с жуткой головной болью, лёг на раскладушке, засыпал с трудом, морщась от накатов разламывающей черепную коробку боли. Комфорта не добавлял и собственный гнусный перегар – последствие двухдневного новогоднего застолья. Одна только мысль-мечта и радовала: выспаться, под душем отмокнуть и – начать с утра прежнюю, будничную, трезвую жизнь…
И вот, пожалуйста, только-только задремал – тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь!.. Будто спицу кто в мозги воткнул-втиснул – и раз, и второй, и третий… В мать твою так, прости Господи!
– Люба! Не слышишь, что ли?!
– Ага! – зло откликнулась бывшая жена. – Мужик в доме, а я на ночные звонки буду вскакивать!..
Встал, пристанывая, свет зажигать не стал и тапочки искать-нашаривать не стал – от злобы (звонок, гад, верещал без остановки!), – прошлёпал босиком в прихожую, глянул в глазок: какой-то подсвинок у двери скорячился, одной рукой упёрся в дерматин, другой звонок насилует. И, слышно, мычит чего-то – требовательно, нагло: мол, открывайте, мать вашу!.. Уж не студент ли какой его – двоечник? В полумраке коридорном рассмотреть трудно.
Михаил Борисович, понимая, что делает глупость, вернулся в комнату, полушёпотом раздраженно сообщил:
– Там молодой оболтус какой-то… Пьяный…
– Ну и что? – Люба даже от стены не повернулась. – Чего ты мне докладываешь-то? Открой ему, да и опохмелитесь вместе!..
Звонки не прерывались.
– Ну, всё, сейчас убью негодяя!
Михаил Борисович решительно прошагал в прихожую и открыл дверь. Правда, – на цепочке. В тусклом свете одинокой коридорной лампочки еле разглядел: пацан, совершенно, запредельно пьяный (как только на ногах держался?), еле-еле поднял бессмысленные глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. Без шапки, но куртка кожаная, на меху, брюки приличные, ботинки дорогие. Однако ж всё так ухайдакано в грязи – сразу понятно: падал не единожды.
– В чём дело? – Михаил Борисович голос сделал строгим, профессорским. – Вам кого?
Парень, просовывая руку в щель над цепочкой, пытался что-то выговорить, но получалось лишь мычание.
– Всё, всё! – прикрикнул как можно жёстче Михаил Борисович, стукнул-шлёпнул по руке незваного гостя. – До свидания! Идите, идите, молодой человек, идите спать!
И – захлопнул дверь.
Однако ж, не успел сделать и двух шагов, опять: тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь!..
Господи, ну почему именно к ним возмечтал попасть этот пьяный скот? Ведь рядом ещё целых пять квартир, причём, их, 93-я, не самая крайняя в секции-коридоре… Когда же, наконец, они сговорятся с соседями и закроют общий вход, поставят кодовый замок или домофон? Мало того, что днём всякие бомжи-попрошайки и торгаши-рекламщики бродят безнаказанно, звонят, так ещё вот ночью визитёр-татарин объявился…
– Может, в милицию позвонить? – совсем уж лишне спросил Михаил Борисович.
Люба фыркнула.
Тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь!..
Ну, всё! Михаил Борисович, изо всех сил подстёгивая себя, раскочегаривая гнев в подвздохе, врубил свет, быстро натянул домашние штаны, накинул рубашку.
– Ты что? – вдруг вскинулась экс-супружница. – Не вздумай открыть! Там, может, их банда целая!
– Да какая банда! – отмахнулся Михаил Борисович, – Лежи уж теперь… з-з-заботливая ты моя!
Он выскочил в прихожую, решительно отомкнул-раскрыл все запоры, цепочку скинул, распахнул рывком дверь. Мальчишка отпрянул, выпрямился, оказавшись на полголовы выше Михаила Борисовича, распахнул руки как для объятия и ринулся в проём. Михаил Борисович упёрся ему в грудь ладонями, остановил, приговаривая: «Куда? Куда?», – развернул с трудом и чувствительно толкнул в спину:
– Идите! Идите, молодой человек! Домой, домой! Вы ошиблись адресом!
Захлопнув дверь, Михаил Борисович далеко отходить не стал. И – не зря.
Тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь!..
– Мать твою!.. Сволочь!! Гадина!!! – ярость захлестнула до перехвата дыхания. – Пшёл во-о-он!!!
Михаил Борисович рванул дверь, ухватил парня за рукав, потащил-поволочил по коридору почти бегом – откуда только силы взялись? Правда, пьяный щенок не сопротивлялся – перебирал-семенил ватными ногами, пускал пузыри. Может, в лифт его погрузить, да отправить вниз? Но тут парень утробно икнул и раз, и второй. Господи, да он сейчас блевать начнёт! И точно! Едва Михаил Борисович выволок парнишку по уличному переходному балкону на лестничную площадку, как тот мощно зафонтанировал. Тьфу! Михаил Борисович тычком запустил пьяного свинтуса вниз по тёмной лестнице и обтряс руки.
– Пшёл вон, свинья!
Парня совсем не было видно, лишь доносились из темноты, со следующей лестничной площадки, тошнотворные звуки. Вот гадство, придётся завтра на лифте спускаться, чего Михаил Борисович терпеть не мог – всегда ходил пешком по лестнице.
Для моциона.
2
Утро началось гнусно.
Для поправки здоровья в этот выходной послепраздничный день имелось два способа: одеться полегче, встать на лыжи да отмахать по речке километров десять коньковым энергичным стилем, или же, наоборот, закутаться потеплее, загрузиться в соседний кафешник и выцедить пару бутылочек лекарственного пивца…
Второй вариант победил.
Михаил Борисович, конечно, своё намерение про лифт не забыл, но сунулся по привычке на лестничный марш. Тем более, в лифте могли попутчики объявиться, кривиться начнут, а по обособленным лестницам в их несуразном доме «армянского» проекта, поди, никто из нормальных жильцов, кроме Михаила Борисовича, и не ходил. И, нате вам – сюрприз: тот подсвинок ночной (а кто же ещё?) спит себе на лестничной площадке, там, куда спустил его Михаил Борисович, дрыхнет как ни в чём не бывало в собственной блевотине, развалился. Фу-у-у!
Пришлось вернуться к лифту.
Когда через пару часов Михаил Борисович возвратился домой весьма взбодрившимся, с двумя бутылками пива в пакете (а-а-а, гулять так гулять!), бывшая благоверная встретила его жутко интересной вестью: на лестничной площадке между 5-м и 4-м этажами в их подъезде обнаружен труп неизвестного молодого человека. Молодой этот и пока неизвестный человек скончался, судя по всему, от асфиксии (удушья) вследствие закупорки дыхательных путей рвотными массами…
Что такое «асфиксия» – его Люба-докторша могла бы и не уточнять: ещё семнадцать лет назад, когда их первый и последний ребёнок родился мёртвым, Михаил Борисович услышал это змеино-холодное удушливое словцо. Его особенно тогда как-то болезненно поразило, почему врачиха, товарка Любы, произносит это мерзкое слово с ударением на последнем слоге – асфиксия? Уточнил потом по словарям: конечно – асфиксия…
Впрочем, чёрт с ним, с ударением! Не о том он думает…
Это что же получается? Это же получается-выходит совершенно абсурдная вещь… Выходит?.. Нет, лучше не додумывать! Не надо было толкать его в спину, ох не надо! Он бы, может, и сам потихонечку спустился вниз, ушёл восвояси… Чёрт, да это нелепость какая-то! Этого не может быть!..
Бывшая жена добавила ненужно:
– Его Дьяченко обнаружил: наклонился, думал спит, а у того лицо синее, и макаронины из ноздрей торчат…
Михаил Борисович отупело глянул:
– Макаронины? Из ноздрей?..
Прошёл на кухню, дверь плотно закрыл, суетливо достал пиво из пакета, отбил пробку о ручку холодильника, жадно глотнул раз, второй, третий… Весь облился.
Михаил Борисович до конца ещё не осознавал всю тяжесть случившегося, но от тоски уже подташнивало. Почему-то сравнение выскочило: будто сбил человека на дороге. Машины у него отродясь не водилось, но сравнение точное: ехал-мчался по дороге, был счастливым, улыбался; и вдруг в единый нелепый миг – раз! – и чужая жизнь кончилась-оборвалась, а твоя переломилась, под откос рухнула…
К чёрту, к чёрту, к чёрту эти тропы, всякие метафоры и сравнения! Хотелось завыть в голос. Ещё вчера Михаилу Борисовичу казалось, что хуже и гаже некуда: ни родных у него, ни друзей, ни семьи, ни дома своего; впереди – одинокая холодная старость где-нибудь в коммуналке… И вот теперь, что же, не то что в коммуналку – в общую камеру? На нары?.. Из сумбура мыслей какая-то одна – смутная, занозистая – особенно корябала мозг, никак при этом не проясняясь. Что-то – с бывшей женой… Ах, да! Что ж тут думать-гадать: Любовь Фёдоровне – это как подарок с небес. Разом все и жилищные, и личные проблемы решит…
Остро захотелось уйти, убежать из дома, хоть на время отдалить всё то, что должно теперь произойти-случиться. Михаил Борисович отставил пиво, вынул из кухонного загашника заначку двести рэ, стремительно выскочил за дверь. Люба что-то вслед крикнула.
Оставьте вы все меня в покое!
3
В кафе сидел до упора.
Домой приплёлся, уже ближе к вечеру, с вымученным решением: забраться в постель, отоспаться в последний раз (если заснёт), а утром – пойти и сдаться. Уж даже самые тупые его студенты и те, вероятно, усвоили кардинальную мысль-идею «Преступления и наказания» – нормальный человек роль убийцы вынести просто-напросто не в состоянии. Уж Достоевскому ли не верить?
Однако ж дома Михаила Борисовича ждала свежая информация – она оглушила, как внезапный удар по лицу. Труп уже опознали: ночной бедолага оказался сыном, вернее, сынком Джейранова.
Боже мой! Кто такой Джейранов – Михаилу Борисовичу объяснять не надо было. Он, как и многие в Баранове, прекрасно знал: Джейранов не только полковник областной милиции, но и, по совместительству – один из паханов-хозяев города. Причём, из самых крутых, а может, и – самый. Впрочем, это не суть важно. Вернее, важно, но суть как раз не в тонкостях бандитской табели о рангах. Михаилу Борисовичу достаточно было понимать-предчувствовать, что Джейранов может любого человека размазать по стенке, стереть в пыль, расплющить, вкатать в асфальт, одним словом, уничтожить без суда и следствия в единый миг.
– Доигрался? – жестоко съязвила бывшая.
– Да пош-ш-шла ты!.. – устало огрызнулся Михаил Борисович, глянул затравленно снизу вверх, скривился, со слезами выдавил. – Беги, беги, закладывай!
И тут: тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь! тр-р-рл-л-лин-н-нь! – звонок, совсем, как ночью: настойчивый, нахрапистый, нетерпеливый. Михаил Борисович вскочил в испуге со стула, схватил Любу за руку, сдавленно вскрикнул:
– Не открывай!
Но тут же сам понял несуразность, позорность своего порыва – обмяк. Люба пошла, открыла. Мужские голоса. Вскоре бывшая требовательно крикнула-позвала:
– Михаил, ну где ты там? Иди сюда!
Вот гадина! На гриппозных ногах пошёл. Обидно, что хмель куда-то совсем испарился-улетучился – а ведь даже сто пятьдесят граммов водки для куражу к пиву подмешал…
В прихожей громоздились два мента – капитан и старлей. В упор на него уставились. Михаил Борисович машинально руки за крестец завёл – думал, что и спрашивать ни о чём уже не будут. Однако ж капитан спросил и довольно вежливо:
– А вы тоже ничего не слышали ночью подозрительного в коридоре?
Второй уточнил:
– Звонки в двери? Голоса? Шум драки?
– Не-е-ет… – не совсем уверенно протянул Михаил Борисович, смутно понимая: что-то всё идёт не так, не по сценарию. Глянул на Любу, твёрже повторил: – Ничего. Мы ничего ночью не слышали… Спали. У нас днём здесь ходят по коридору, шумят… А ночью, обычно, спокойно… Правда, правда! Днём бомжи всякие…
Михаил Борисович чувствовал, что надо бы остановиться. И – не мог. Люба встряла:
– Извините, но ничем помочь вам не можем. Ни-че-го не слышали.
– Ну, коли так… – скривился капитан, кивнул напарнику. – Ладно, пошли дальше.
Когда дверь за ними закрылась, Михаил Борисович несколько мгновений смотрел на Любу во все глаза и вдруг неловко раздвинул-распахнул руки, ещё не надеясь вполне. Но жена качнулась навстречу, припала к нему, стукнула кулачком по груди, раз, другой – бессильно, от отчаяния:
– Дурак! Мучитель! Идиот! – подняла заплаканное лицо. – Ну, вечно ты во всякие истории влипаешь!
В голосе её было столько уже подзабытой нежности. Михаил Борисович понял, что и сам вот-вот захнычет-рассиропится, судорожно прижал Любу к себе, застыл, вдыхая запах её волос, так знакомо пахнувших яблочным цветом.
– Что же делать? Люба, что же нам делать?!
– Ничего, ничего, всё обойдётся! – Люба успокаивала его как маленького. – Никто не видел. Ты не виноват… Ты не виноват, Миша! Так получилось… У него, оказывается, девчонка на шестом этаже живёт – он просто этажом ошибся. Значит, судьба у него такая… Да и – был бы нормальный! Он, говорят, алкаш уже и наркоман… Он, рассказывают, уже убил кого-то… Это же бандитский выродок!..
Михаил Борисович почти уже не слушал лепет жены. Он всё сильнее, всё жарче сжимал её, подзабыто шарил руками по спине, с упоением ощущая, как под ладонями знакомо и податливо изгибается её всё ещё желанное тело. Он начал, задыхаясь, целовать её в ложбинку груди, в шею, нашёл наконец губы – припал жадно, ненасытно, как припадает к кислородной подушке задыхающийся от удушья человек…
– Люба!.. Любушка!.. Милая!.. – успевал пристанывать он, на мгновение прерывая поцелуи. – Не важно! Ничего не важно! Ты и я! Будем жить! Всё будет, как прежде!..
Он увлёк её в комнату. Нетерпеливо, словно молодожёны, они раскинули-разложили диван-кровать, суетливо разделись, помогая друг другу, бросились в постель…
Уже под утро в голове совершенно обессиленного Михаила Борисовича, в тот момент, когда он вслед за женой, уснувшей на его руке с блаженной улыбкой на распухших губах, собрался погрузиться в сладкий сон-отдых, мерцнула довольно кощунственная мысль: «Если для этого надо было убить, что ж…»
Он никогда не думал (или забыл), что счастье может быть таким острым, таким пьянящим, таким всепоглощающим.
А сколько его впереди!!!
4
Он так и уснул, улыбаясь.
И, конечно, не знал, не предвидел (не дано человеку знать свою судьбу!), что на следующий день, когда Люба после загса и церкви (записались в очередь на регистрацию и венчание – чего ж откладывать?) решит пробежаться по магазинам, а он прямиком отправится домой, готовить семейно-праздничный обед, – припрётся Виктор Дьяченко, ближайший сосед из 85-й. Заглянет просто как бы по привычке, тридцатник на похмелье перехватить, а потом к разговору, заглядывая проникновенно в самоё душу, и выдаст: мол, не спалось ему позавчера, в ночь на третье, вот и увидал случайно в глазок, как Михаил Борисович какого-то пьяного хмыря тащит по коридору…
И почувствует Михаил Борисович себя так, словно накинули ему на шею петлю-удавочку, и стало ему трудно, совсем невозможно дышать…
/2003/
ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ
Рассказ
1
Наш безразмерно-необъятный дом, громоздящийся Казбеком в центре города, вместил в свои квартирные клетушки население, по крайней мере, крупного села, а то и целого райцентра. Не дом – архитектурный монстр. И собак в нём обитает целая стая, голов эдак в сто, сто пятьдесят, а может быть, и – в двести.
Часов с шести утра, с самой несусветной рани, а вечером до полночи, до самой кромешной тьмы, во дворе нашего дома-Вавилона приливами и отливами вскипает псиное столпотворение – брех, визг, лай, вой. И вся эта собачья какофония щедро приправляется мерзко-повелительными хозяйскими криками-воплями:
– Стоять! Стоять! – Сидеть, сука! – Рядом! Рядом, я сказал! – Джексон, ищи, ищи! – Фу! Фу! – Назад! Наза-а-ад, Бим! – Маркиза, Маркиза, Маркиза, ко мне! – Цыц! Держите свою тварь, в конце концов! – Фас, Гамлет, фас!..
Порой, чаще по вечерам, мы с Фирсиком, моим великолепным котом (медово-рыжий, в белой манишке и белых же носочках), устраиваемся на лоджии и с безопасной высоты пятого этажа рассматриваем-наблюдаем эту тявкающую, гавкающую и скулящую публику. Фирсик мой принадлежит к самому благородно-плебейскому роду: кошачий метис, кошачья дворняга, если можно так выразиться. Поэтому – я чувствую, да и вижу по его реакции – ему особливо ненавистны и омерзительны собачьи чистопородные аристократы, всякие там немецкие овчарки, доги, ротвейлеры, эрдельтерьеры, ньюфаундленды, пинчеры, пекинесы, чихуахуа и прочие ризеншнауцеры. Котяра мой смотрит на этих надутых голубокровных тварей злобным взглядом, фыркает презрительно и чихает на них с пятого этажа. На бездомных же барбосов, шмыгающих робко через двор к мусорным контейнерам, Фирсик посматривает, я бы сказал, с доброжелательным любопытством.
Тут я с ним не совсем согласен. И среди породистых собак встречаются симпатяги – с добрым, умным и благородным взглядом. Ну, можно ли не улыбнуться при виде лохматой узкомордой колли, длиннющей безразмерно таксы, сеттера с ушами до земли или совсем игрушечной болонки? И, напротив, городские бездомные псы… Не каждый из них вызывает симпатию. В большинстве своём они отвратно грязны, лишайно-облезлы, с поджатыми уродливо хвостами, забиты и трусливы.
Совсем другое дело – домашние дворняжки. С детских лет, с той сельской поры моей жизни, когда рядом с крыльцом всегда стояла у нас обжитая собачья будка, с того далёкого времени и сохранилась в душе моей приязнь именно к дворнягам, этим самым добрейшим, преданным и скромным существам из собачьего племени. Дворняжки подкупают своей естественностью и отсутствием густопсовой злобной спеси.
Кстати, и в мире людей – да простится мне такая параллель! – скромная дивчина с природным румянцем на щеках и стыдливо потупленным взором куда как привлекательнее, чем самая породистая разфотомодель или разманекенщица с фиолетовыми губами и веками, взачмок жующая лошадиными вставными зубами заморскую отравную жвачку.
Впрочем, параллель-то ведь недаром выскочила. Оно так и есть: размалёванные девки проститутского вида выгуливают как раз догов и овчарок, причём, как правило, – кобелей. Похабная, надо сказать, картина: вихляет задом, обтянутым мини-юбкой или джинсами, равнобедренная хозяйка, а рядом трясёт выставленными напоказ кобелиными причиндалами здоровенный дог – проминаются. Болонок же, такс и коккер-спаниелей выгуливают, в основном, нормальные девчушки, очкарики-мужчины да престарелые бабуси. А уж если навстречу тебе ковыляет на кривых лапчонках какой-нибудь японский хин, мопс или бульдог с уродливой мордой пёсьего Вельзевула – ищи рядом ожирелого хозяина или сухопарую хозяйку с брюзгливо-надменной физиономией. Собаченции, действительно, на удивление пародийно передразнивают обликом своих хозяев. Или, наоборот, – хозяева своих псов.
– Ну, что, Фирс Иваныч, – шучу я иногда, – примем в нашу семью какого-нибудь лопоухого собачьего славянина – а? Назовём Емелей или Кузьмой. Будешь за уши его трепать.
Кот мудро щурится, коротко взмурлыкивает: мол, что попусту языком-то бить, – и опять свешивает пушистый усатый шар головы за барьерчик лоджии. И он прав, мой всё понимающий красавец котище: куда ж брать собаку, если в нашей с ним однокомнатной конуре уголка лишнего нету. Да и, признаться, я ленив и вял. Даже представить себе не могу, как можно дважды в день и при любой погоде выходить с хвостато-клыкастым питомцем во двор – гулять. Меня в дождь и под автоматом на улицу не вытолкаешь, я существо теплокровное, люблю сухость, покой и уют.
И, если уж на то пошло, не о себе надо думать, – о собаке. Даже трёх вылазок в открытый мир по четверти часа для любого сильного пса – мизер и издевательство. Да, да! Заточить овчарку, водолаза или сеттера в городскую квартиру-камеру – преступление против природы, насилие над животным, нарушение его естественных земных прав. Вот так, Фирсик. Поэтому мы с тобой не заведём даже добродушную дворняжку, хотя и очень хочется. Мы ж с тобой не инквизиторы, не фашисты, не красно-коричневые изверги, в самом деле, не скоты бесчувственные. Мы с тобой, Фирс Иваныч, – настоящие собаколюбы и псинофилы. Да?
– Мр-р-р! Мр-р-р! Мр-р-р!..
Фирс всеми четырьмя лапами – за.
2
С Полиной Яковлевной познакомились мы случайно, по воле водопроводного рока.
Есть такой. Взыграет от скуки, шутканёт и – превратит в одночасье жизнь вашу, ваше повседневное бытие в сырой кошмар и мокрую пытку. Ладно ещё, если свищ в горячей трубе проклюнется, и гейзер кипятковый зашипит мощно в ванной, а то и в комнате. Или – чёрт уж с ним! – стык в радиаторе отопления закапает-заструится горячими слезами. Это – не по вашей вине. Совесть человеческая и соседская ваша чиста, как носовой платок гимназистки.
Со мной же случился самый паскудный из сантехнических вывертов. В середине дня в городе нашем по решению мэрии, в целях чрезМЭРной экономии, отключают воду. И вот как-то, потревожив по забывчивости пустой кран, я по склерозности же забыл барашек крутануть обратно. И – ушёл. Вернулся я не скоро (гулял-прогуливался по Набережной) и…
У двери своей квартиры я застал взволнованную особу в махровом купальном халате. Она одной рукой давила-жала на звонок, а маленький кулачок второй разбивала яростно о дерматин моей двери. И при этом интеллигентно вскрикивала вполголоса:
– Эй! Ну, кто-нибудь! Эй, откройте же!..
Дверь пропускала сквозь себя парок, словно служила прикрытием в большую коммунальную баню.
Первая мысль моя – Фирсик! Моего пушистого шустряка я, увы, ограничивал в свободе, уходя из дому, – оставлял ему во владения лишь ванную и коридорчик. Сейчас явственно слышался из-за двери дикий нечеловеческий вопль – кошачий.
– Минутку, мадам!
Я схватил довольно бесцеремонно Полину Яковлевну (еще не зная тогда, что это Полина Яковлевна) за покатые плечи, переставил в сторону. Она залепетала что-то вроде:
– Вы? Вы – хозяин? Ой, что же вы делаете!..
Я быстро и молча заскрежетал замками, кое-как справился со всеми тремя и распахнул дверь. Через порожек плеснула клубящаяся вода. Раздался мяучий взвыв-стон, и мой обезумевший Фирс с обувной полки шуганул через всю прихожую на порог. И тут же, уже в полёте, узрев чужого человека (а чужих он терпеть не мог и трусил), котяра мой мокро-медовый задавленно хрюкнул, отпружинил от пола и взлетел ко мне на шею. Я перехватил его, скрутил, зажал под левой мышкой, бросился вместе с ним по горячему озеру в ванную и перекрыл-заткнул наконец дымящийся водопад. Потом сел на край ванны, задрал мокрые туфли на унитаз, приладил Фирсика на коленях и перевёл немного дух. Размеры катастрофы представлялись мне уже вполне.
Послышались шаги-шлепки, и в ванную-парную заглянула «мадам».
– Ужас! Кошмар! Ну, как же можно кран не закрывать? У вас-то хоть пол, а у меня и стены, и потолки – на кухне, в ванной, в прихожей… А я ремонт только-только закончила – трёх строителей нанимала. Сколько денег истратила!
Она вдруг заплакала буквально навзрыд, закрыв лицо перламутровым маникюром. Из-за розовой полы халата выглядывала розовая же, в ямочках, коленка. Да и лицо моей нижней соседки по стояку я уже успел рассмотреть: ничего, симпатичная – крашеная блондинка со светло-карими глазами. Глаза у неё были Фирсикового цвета – медовые.
Но ему-то, Фирсу Иванычу, чувствовалось, соседка как раз не по душе пришлась. Он – уже упоминалось об этом – чужих людей терпеть не мог, а женщин почему-то и на нюх не выносил. Он даже бывшую супружницу мою, когда она заскакивает порой за какой-нибудь юбкой или сумочкой, перестал узнавать и, с прищуром фыркая, исчезает моментально в своей цитадели-ванной, лишь только та появляется на пороге. А в Полине Яковлевне Фирсик сразу унюхал к тому же и самый невыносимый для него человеческий тип – собаковладельца. Да, как выяснилось пятью минутами позже, в квартире под нами помимо субтильной комнатной хозяйки обитало довольно рослое дворовое существо чёрной с подпалинами окраски, с беспрерывно мотающимся от хронического добродушия хвостом и совершенно дикой кличкой – Принтер. «Гм, – удивился я про себя, – редкость в наше время – дворняжка в доме».
Но пока было не до неё. Обезобразили мы с Фирсом келью Полины Яковлевны, действительно, на славу. Даже плитка в ванной принялась уже отскакивать. Бедная женщина не переставала всхлипывать и культурно причитать. Я понял, что весь почти отпускной сладкий пирог, от которого успел я откусить лишь три кусочка-дня, придётся докушивать в заляпанной робе строителя.
Прощай наше с Фирсиком лелеемое путешествие в деревню! Ауфвидерзеен – окуни, плотвички и лещи; гуд бай – волнушки и маслята; оревуар – черника и лесной орех; счастливо оставаться и прощальное вам «мяу!» – упитанные сельские мышата и вкусные, пьянящие, как валерьянка, воробьи…
Увы, нам, увы!
3
И возвернулась моя стройотрядовская студенческая юность.
К слову, навыков столярно-малярно-сантехнических я никогда не терял, свою берлогу содержал в пристойном виде. И нынче хотел-намеревался перед деревней провернуть у себя очередную реставрацию. Но пришлось вот повозиться вначале этажом ниже.
Полина Яковлевна трудилась на благо отечества и собственного кармана на дому – в комнате беспрерывно скрипел и попискивал компьютер, стучали мягко клавиши, – поэтому я работал, особенно в первые дни, под строгим хозяйским доглядом. Совал в мои ремонтные дела свой нос, пачкал его алебастром и неугомонный Принтер. Ко мне он привязался с первой же минуты всей своей собачьей душой. Даже исходивший от меня терпкий для пёсьего носа Фирсиковый аромат Принтера не коробил. Впрочем, он ко всему сущему на земле относился, так сказать, с распростёртыми объятиями. Правда, пока я не ляпнул лишнего, рокового для бедного пса словечка, Полина Яковлевна чересчур уж не порицала антисобачье поведение Принтера. Когда в минуты отдыха-перерыва я присаживался на прикрытый газетой табурет и большой щен клал тяжёлую голову ко мне на заляпанные колени, умильным взглядом выпрашивая ласку, Полина Яковлевна вполушутку-вполусерьёз ворчала:
– Ишь, сторожевая собака называется! Как же ты, подлый изменник, охранять меня будешь – а? Ну, дармоед! А ещё «Чаппи» да сырой печёнкой его кормлю…
Я оказывался как бы между двух огней. С одной стороны, мне нравился беззлобный пёс, и я был полностью на его стороне. С другой – я с всё большим вниманием и особым интересом поглядывал на хозяйку квартиры. Она ходила дома в неизменном розовом халате, который как-то невзначайно приоткрывал моему холостяцкому жадному взору то аппетитные коленки, то не менее соблазнительную ложбинку в вырезе – там поблёскивал-вспыхивал массивный золотой крестик на цепочке. Да-а, о Полине Яковлевне нельзя было сказать даже в состоянии алкогольного цинизма: мол, дамочка эта уже основательно помята жизнью и потёрта мужиками. Стройна, свежа, прельстительна! Полина Яковлевна влекла меня к себе с каждым днём всё магнитнее, всё жарче. «Эге, – думал я, замывая жёлтые круги на потолке и прислушиваясь к собственному сердцу, – неужто?..»
Однажды, уже под конец ремонтной эпопеи, хозяйка пригласила меня на чай – вечером, после смены. Я отмылся дома, тщательно побрился, приоделся, нацепил даже галстук, прыснул на платочек одеколона. Фирс, наблюдая мои жениховские сборы, смотрел тигром и неодобрительно мявкал. Я, подчёркнуто игнорируя его, прихватил коробку ассорти и отправился вниз.
Полина Яковлевна, на моё удивление, красовалась всё в том же домашнем интимно-розовом неглиже. В комнате на придвинутом к софе журнальном столике теснились пиалы, блюдца с салатами, сыром, колбасой-салями, печеньем и конфетами, ваза с яблоками, господин Коньяк. Ого! Под столиком лежал Принтер и бил хвостом по ковру. Он обожал конфеты. Хозяйка предложила мне раскупоривать «Белый аист», а сама принялась грациозно разливать чай в пиалы. И вот тут в подвздохе у меня тревожно ёкнуло и сладко защекотало.
Она нагнулась слишком неосмотрительно над столиком, половинки халата сверху разбежались вовсе, и холёные полноватые груди Полины Яковлевны с ярко-пунцовыми сосками открылись взору моему полностью и до конца. Полина Яковлевна тут же спохватилась, зашторилась, а я вынужден был покраснеть и потупиться.
Потом, когда мы пили чай вперемежку со сладко-жгучим «Аистом», руки наши пару раз совсем случайно соприкоснулись. Выяснилось: температура у обоих одинаково повышенная. Полина Яковлевна, откинув прядку с влажного лба, пролепетала томно:
– Не посмотреть ли нам видик? У меня неплохой выбор: есть «Империя чувств», «Эммануэль», «Калигула»…
Ничего себе! Видеть мне подобного не приходилось, но слыхать – слыхивал. Между прочим, в квартире Полины Яковлевны, насколько я заметил, книг не водилось ни единой. На книжных стеллажах блестели яркой чешуёй видеокассеты. Красный угол в комнате занимал лупастый «Панасоник».
– Гм… – замялся я.
Было ясно: после фильма, а скорей всего во время демонстрации его мы с Полиной Яковлевной законтачим, станем близкими людьми. А я ещё не знал, не уверен был – надо ли?
– Разве что – «Эммануэль», – пробормотал я, смутно припоминая, что это, судя по слухам, наиболее мягкий фильмец из предложенных. Обрадованная хозяйка резко вскочила. Задремавший в ногах у нас Принтер вспрянул, рванулся и поддел на мощные лопатки ажурный столик со всеми его тремя ножками и тарелочно-пиальным грузом. Грохот, звон, крик.
– Поросёнок! – взвизгнула Полина Яковлевна, замахиваясь на незадачливого пса. – А ещё – чистокровная овчарка! Глупый, как дворняга паршивая. Обормот!
И вот тут, на беду Принтера, встрял я. Стряхивая с парадно-выходных брюк остатки оливье, я великодушно выступил на защиту лопоухого пса, – он приниженно распластался на ковре и смотрел печально-виновато маслеными глазами…
Ещё в самый первый день я чуть было не подвёл злосчастное животное. Когда нервозность чуть улеглась, когда хозяйка поняла уже до конца: катастрофу с потопом не отменишь и остаётся надеяться, что виновник, то бишь я, полностью загладит, замажет и забелит свою вину, тогда и появилась возможность расслабить разговор, пошутить. Я погладил собаченцию хозяйки по незлобивой башке:
– Вот какой барбосик! Помогать мне будешь, барбос?
– Хе, «барбос»! – фыркнула задетая Полина Яковлевна. – Да если этот пёс знал бы человеческий язык, он бы ни с вами, ни со мной разговаривать не стал. У него знаете, какая родословная – аристократ! Восточно-европейская овчарка чистейших кровей…
У меня хватило тогда такта не разубеждать хозяйку в обратном. Я лишь с лёгкой иронией поинтересовался:
– И сколько же в наши дни стоит голубокровный принц-овчар?
Оказывается, доверчивая женщина выложила за фальшивого «принца» сто тысяч рубликов. Да и то торговалась: фальшивособачники требовали полторы сотни штук. Щенки, выходит, по цене сейчас переплёвывают мой месячный оклад…







