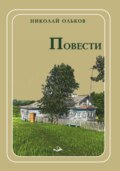Николай Ольков
Земля и воля. Собрание сочинений. Том 15
Этот роман посвящаю моим родителям, Максиму Павловичу и Марии Ивановне, а так же и второй моей маме, Марии Никандровне, которая после смерти родившей меня
растила и воспитывала, как родного сына.
© Николай Максимович Ольков, 2016
ISBN 978-5-4483-5624-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава первая
Мирон никому не сказал, отчего так спешит, вроде и время зимнее, спокойное, и вопрос он для отмазки придумал не спешный, но то и дело шевелил вожжу, и этого Ворону хватало, чтобы ускорить шаг. Когда въехали в уездный центр, конь споткнулся и раза два терял дорогу, ладно, что ездовых мало навстречу. Мирон похолодел: загнал коня! Тихой рысью сдерживал, подвернул к дому купца Колмакова, на лай собак вышел работник, гостя признал, завел лошадь во двор.
– Охрим, распряги, поводи чуток и в теплую конюшню, не дай бог – загнал красавца.
Охрим скинул сбрую, правым ухом припал к груди лошади, долго слушал, поднял голову, улыбнулся:
– Оклематся, ежели бы загнал, в грудях у него сильный был бы стук. В тепле протру, да болтанку сделаю, да настоев добавлю. Я, Мирон Демьяныч, с того света лошадей добывал, так что не горюй. А вон и хозяин.
Мирон вынул из кармана щепотку мелочи и высыпал в шапку Охрима.
– Портишь мне работников, балуешь, на них потом управы не найти. Долго ехал? Конь вроде добрых кровей? – на крыльце стоял хозяин Емельян Лазаревич, дородный мужчина в накинутом на плечи дорогом меховом пальто и с сигарой во рту.
Гость рассказал. В двух местах ночевал, коня управлял сам, давал выстойку, потом теплой воды из избушки, а уж потом сена охапку и торбу овса. Пучком сенной объеди насухо вытирал мокрые бока своего любимца Ворона, трепал по шее, совал в ищущие губы кусок припасенного хлеба. Пять годов не расстаются. Сам жеребенка принимал, на руках уложил на попону перед матерью, та все еще лежала, но обязанности свои знала, потянулась мордой к дитенку и начала вылизывать. Черный, на ногах высокий, шея длинная – красавец жеребец. С полугода стал бегать с матерью, если хозяин не далеко ехал. К двум годам познал седло и оглобли легких санок. А с трех стал первым на конюшне Мирона Курбатова.
В уезд погнала страсть мужика к новинам в крестьянском деле, прочитал в губернской газете, что деловые люди закупили в известных им местах новый сорт озимой ржи, и так ее хвалили, так хвалили: терпеливо зиму переносит, даже если и снегом не особо прикрыта; с первым теплом оживает и в рост идет справно; буйно кустится и колос выметывает большой, а озерненность колоса до тридцати штук. Поехал сразу, чтобы опередить конкурентов, кто ближе живет, могут все поступление скупить, а потом возьми у них втридорога.
Вошли в дом. Сразу пахнуло жаром прогретых печей, Емельян Лазаревич любил тепло. В отведенной комнате снял Мирон плотную пуховую рубаху, теплые, мехом подшитые штаны, одел все свежее и легкое, умылся под рукомойником, красивая девка с улыбкой подала рукотерт, дождалась, пока гость, любуясь ее статью, вытер лицо, шею, грудь за распахнутой косовороткой. Высокий, с русой шевелюрой густых волос, гладко выбритый – и она им невольно любовалась. Глаза у гостя голубые, завлекательные, губы ядреные, такой присосет – не враз оторвешься. И голос бархатный, словно не из деревни человек, а от театра в гости зашел.
Хозяин уже сидел за столом, разливал в хрустальные рюмки темный и ароматный коньяк. Две девки ставили приборы, принесли из кухни гуся, который, кажется, готов был взлететь из гусятницы, да мешали яблоки, облепившие со всех сторон. Налили по тарелке густых щей со свининой, щи, видно, долго прели рядом с загнеткой, от запаха Мирон сглотил слюну.
– Давай, Мирон Демьянович, по рюмке настоящего французского коньяка. С меня мусье сорвал за двадцать ящиков, вспомнить страшно, но знатоки есть, берут.
Полчаса ели и пили, изредка перебрасываясь незначительными репликами. Мирон знал манеру хозяина: настоящий разговор потом, а сейчас надо хорошо покушать.
– Полагаю, что у тебя серьезный повод для столь дальней поездки? – тщательно обиходив рот, выйдя изо стола и раскуривая сигару, спросил Колмаков.
Мирон тоже встал, перекрестился и ответил:
– Совершенно серьезный, но ты сначала обрисуй обстановку. До меня газеты и слухи доходят одновременно, так что не сразу и разберешь.
Емельян Лазаревич засмеялся:
– Ты в газетах правду не ищи. Даже в той, которая так и называется. И я тебе ничего не стану рассказывать. У меня беда в торговой лавке, бандиты вчера чувал разобрали и добрались. А на вечер я пригласил своего хорошего знакомого, он в Петербурге университет окончил, грамотный, а когда там шумиха началась, вернулся на родину, сюда. Власти приняли, грамотных-то среди главарей нет, а ведь город, уезд, тут тебе не наганом по столу колотить, хотя и это есть. И теперь он в большевиках, как бы тебе не соврать: председатель исполкома, то есть, исполнительного комитета от советской власти.
Мирон поднял глаза:
– И он с тобой дружит?
Колмаков поднялся, прошелся по комнате. Мирон заметил, что сдал старый друг, сутулость появилась, седина в голове, глаза потухли, хоть в речах и озорство. Жену два года назад схоронил, может, потому и девок полный дом держит. Заметил, что смотрит Емельян на большой портрет жены своей Домны Ерофеевны, мешать не стал. Хозяин положил погасшую сигару в хрустальный ковчег:
– Мы сошлись в первые дни его приезда, родителя его знал, милейший человек. Но – бедны. Я дал тогда парню пачку денег, сказал, что сочтемся. С этого началось. Деньги он уже предлагал, да к чему они мне? Ты увидишь, это интересный человек. Зовут его Всеволод Станиславович, фамилия Щербаков. Заучи, чтобы не перепутать. И отдохни с дороги. Зина, постели гостю на диванах, а я в нижнюю лавку.
Та самая девушка, что встретила его в передней, принесла белье, закинула диван и рядом положила плед.
– Отдыхайте.
– А ты уходишь?
Зина улыбнулась:
– У меня работа, барин.
Мирон засмеялся:
– Какой я тебе барин? Я крестьянин из дальнего села, приехал по делам. А тебя раньше тут не было.
– Да, я полгода служу.
Мирон осторожно тронул ее плечи:
– Или останешься? Такая ты славная! Я хозяину ничего не скажу.
– Это вы с ним потом поговорите, он скажет, что и как. Все, пошла я.
Мирон лег ничком, раскинув руки и подложив широкие кисти под правую щеку, предварительно пригладив волосы. Уснул сразу.
Охрим водил уставшего жеребца по ограде, места много, да и за ветром, потом мягкой попоной протер вздрагивающего коня, тот уже чуток попил его настоев, теплой сырой воды и лениво жевал ядреный овес, который зачерпнул конюх из прихваченных запасов. «Досталось тебе, Вороной, знать, большая нужда гонит хозяина».
Никому не сказал Мирон, но было еще одно дело, поважнее ржи: брат его Никифор в двадцать первом связался с повстанцами, шибко нигде замечен не был, но под суд попал, дали десять лет принудиловки. И вот прислал весточку: надо хлопотать в уезде, в суде, чтобы пересмотрели и освободили, сил больше нет. Другу своему Емельяну пока решил ничего не говорить, только знакомство его с таким большим начальником заставит поторопиться, потому что сегодня, именно сегодня и надо о брате разговор завести, завтра Щербаков в гости уже не придет, а Мирона к нему никто не допустит. С этой мыслью и метнулся он на широкий диван, не особо озабоченный вежливым отказом девицы.
Услышав хлопнувшую за хозяином дверь, Мирон встал, пошел в умывальню, омылся холодной водой, прогнал сон и остатки хмеля.
– Что во сне видел, гость дорогой? И как тебе мои девки поглянулись? Я их по всему городу выбирал, на все дела мастерицы, у меня порядок: три блюда к каждому столу. Вдруг какой человек нечаянно, а у меня все на столе, словно ждал.
– Продукты переводишь.
– Ничто не пропадет, с той стороны дома у меня комната для столования обслуги: приказчики, грузчики, конюха – курам после них поклевать нечего. Чай сейчас подадут, а ты пройди на кухню, принюхайся, какие там ароматы. Книг им привез, по книжкам все делают, я уже больше пуда прибавил после смерти Домны Ерофеевны. Люблю поесть, и выпить тоже, только доброго вина, выстоявшегося. А гость наш явится ровно в шесть. О, вот и чай!
Девушки принесли литровый самовар, он еще отпыхивал, как усталый работник, несколько фарфоровых чайничков, по бокам красиво написано: «Индийский», «Китайский», «С душицей», «Смородинный», «Сбор трав». Емельян ухватил кусок сахара и большими стальными щипцами стал неистово кусать его на небольшие дольки. Девушки удалились. Емельян, сдавливая щипцы, аж покраснел от натуги, но промолвил:
– Знаю тебя давно, Мирон, и чую, что акромя ржи у тебя заделье есть. Не ошибся?
Мирон кивнул:
– Верно заметил.
И рассказал всю историю своего братца.
– Ты бы не мог столь высокого друга попросить о помощи? – Мирону стыдно было говорить это другу, но уж больно все удачно совпало.
Емельян, сметая крошки сахара в блюдечко, глянул прямо через стол:
– Да сам и скажешь. Он мужик толковый, если возможно – так пообещает, а вдруг не по силам ему – тогда без обиды.
Мирон угрюмо кивнул:
– Да какие могут быть обиды? Чтобы только в случае отказа он к тебе не переменился бы.
Емельян засмеялся:
– О сем не заботься, у нас давняя дружба.
Чай пили с удовольствием, с покряхтыванием, с причмокиванием, вытираясь широкими вышитыми рукатёртами. Наконец, оба шумно отпыхнули, гость первым поставил тонкую китайскую фарфоровую чашку на блюдце вверх донышком, потом и хозяин сделал то же, и позвал девушек. Вся посуда со стола вмиг исчезла.
– Что твое хозяйство? Растет?
Гость не сразу ответил, потому что приятно ему было порадовать друга добрыми новостями.
– Сеялки прикупил конные и молотилку с конным приводом, пара лошадей по кругу ходит, а в нее снопы развязанные бросают. Зерно в сторону стекает, а солома на проход, знай, отбрасывай. Трудно, но это – не цепами махать, как в старые годы.
Емельян Лазаревич раскурил сигару и напустил облако ароматного дыма, что-то вспомнил, засмеялся:
– Когда в двадцать первом эта буча заварилась, я уж совсем хотел все бросать и бежать в Москву или дальше. Теперь думаю порой: зря не уехал! Что-то неспокойно мне в последнее время. А ты? Как ты не ввязался в бунт, и не тронули тебя ни те, не другие? А ведь власть могла из-за брата?
Мирон улыбнулся:
– Я крепко помогал бандитам хлебом и мясом, только об этом никто не знал: ну, привезли, сгрузили, своим возчикам наказал язык как можно глубже засунуть, потому, если узнаю, своими руками отрежу. Обошлось.
Колмаков ходил по мягким коврам в легких валянных из овечьей шерсти пимах, дымил сигарой.
– А как тебе, Мирон Демьянович, новая политика? Повернулась власть к крестьянину?
Мирон тоже встал, прошелся по эту сторону стола.
– Ты знаешь, что политикой я не интересуюсь, по мне – дайте волю крестьянину, не диктуйте ему, не указывайте, все равно лучше меня никто не знает, что надо на Долгих увалах делать, чтобы они хлеб родили. У меня триста десятин посевов, да сто я оставляю под пар либо загоняю туда все, что можно плугом конным обработать между рядами, тут и капуста, и свекла, и картошка. Все равно земля отдыхает. Прошлым годом намолотил больше тридцати тысяч пудов, изрядно продал, семена отложил добрые, чуть не по зернышку отбирал. Налог сполна заплатил, о чем имею благодарность от уезда. Людей своих оделил, и хлебом, и сеном для скотины, и рублем. Мои работники довольные, они против хозяина никогда не пойдут.
Хозяин покашлял, придавил сигару в том же ковчеге, поднял указательный палец:
– Вот, друг мой сердечный, ты эти слова и вставь в разговоре с гостем. Да он сам тебя спросит. А потом и личную просьбу можно сказать, я поддакну.
Через несколько минут прогудел сигнал автомобиля, Емельян Лазаревич метнулся к дверям и через пару минут вошел вместе с высоким красивым мужчиной, Мирон видел их в проем двери, хозяин помог гостю раздеться, тот причесал свои и без того прилично уложенные волосы, и они вместе вошли в залу. Гость показался и вовсе молодым, только лицо строгое и голос сухой. Мирон стоял у своего стула, Емельян начал церемонию:
– Всеволод Станиславович, сегодня у меня двойной праздник, приехал из дальнего села мой давний друг, из лучших в уезде крестьян Мирон Демьянович Курбатов. Знакомьтесь, товарищи, я очень рад таким гостям.
Щербаков протянул Мирону руку, тот неловко пожал, смутившись. Хозяин крикнул обслуге, чтобы готовили стол. Мужчины перешли в кабинет. «Вот хлюст, прикидывается неграмотным, а у самого три шкафа книг», – успел подумать Мирон, но Щербаков отвлек его вопросом:
– Из какого села вы прибыли, Мирон Демьянович?
Курбатов встал:
– Из Бархатова, это самый край уезда, да и губернии. Без малого восемьдесят верст.
Щербаков посмотрел на Мирона и как бы в упрек себе проговорил:
– Да вы сидите! Жаль, не бывал в ваших краях. Как живут люди? Что говорят о нас?
Увидев смятение в глазах Мирона, уточнил:
– Я имею в виду советскую власть. В ваших краях ведь тоже было выступление против власти в двадцать первом?
Мирон едва собрался с духом, сам себя ругал, отчего столько смущения перед начальством? Но ответил твердо:
– Доложу я вам, товарищ Щербаков, что крестьяне в корне переменились. Ожили. Стали землю припахивать, лошадей разводить, пока тракторов нету. Налог в основном сдаем сполна, даже наш сельсовет постановил: по десять пудов хлеба сдать в страховой фонд, если кто-то из мужиков не сумеет вовремя рассчитаться с государством – вот он, хлебушко, отдадим, а нерадивый позже восстановит. Так что и на всякий случай резерв держим.
Щербаков размял тонкую папироску и с нажимом спросил:
– А лично вы сколько хлеба намолотили и сколько сдали по налогу?
Мирон опять замялся: намолот огромный, но ведь каждый старается занизить, чтоб дополнительным не обложили, это он другу Емельяну всю подноготную рассказал.
– Налог доводят нам на посевную площадь, вот я за триста десятин и вывез в пользу государства, да еще сто пудов сверх того.
В дверях показалась Зина и кивнула хозяину. Тот захлопал в ладоши:
– Господа-товарищи, прошу к столу!
Мирон удивился: «Ох, вьюн, денежный мешок этот Емеля! Как крутится около важного гостя, как бы случайно, касаясь его руки, плеча. Почти поет!».
– Всеволод Станиславович, дорогой, откушайте кусочек нежной козочки, третьего дня мужики привезли. А тут лосятина в соусе, во рту тает, а сии котлеты – медвежатина, вкус – во всей губернии не сыскать. А ты, друг мой Мирон, отчего притих? По рюмке русской водки под мясо, а потом разберемся.
Некоторое время все молчали, осторожно звенели столовые приборы, Мирон очень хотел попробовать рыбу, но ждал, когда кто-то начнет первым и покажет, какой вилкой надо пользоваться. Но после третьей рюмки все размякли, расслабились, заговорили. Хозяин повернулся к Щербакову:
– Каково вам работается, Всеволод Станиславович? Что нового ожидается в уезде? Слух есть, что вас, якобы, переводят в губернию?
Щербаков от души засмеялся:
– На ваши вопросы, Емельян Лазаревич, и до полуночи не ответить. Одно скажу сразу: из уезда никуда не уезжаю, хотя предложения есть. Скажу по дружбе, надеюсь, и Мирон Демьянович не станет возражать, если мы тут, за столом, по-русски, объявляемся товарищами: предложения меня не устраивают. Мне интересно содержание работы, ее влияние на жизнь людей, а предлагают сесть за бумаги начальником над тремя десятками полуграмотных женщин. Отказываюсь, но не настаивают. Хочу спросить Мирона Демьяновича: если государство через банк даст кредит на трактор, на другую технику – крестьяне поверят?
Мирон отложил вилку, отхлебнул холодного кваса, кашлянул:
– Если руку на сердце – мы только-только очухиваемся от продразверстки, когда нагнали на нас всю чухню, которая и по-русски-то пары слов не вяжет. А потом двадцать первый год. Сначала мужики перебили всех коммунистов и комсомольцев, потом войска тоже не шибко разбирались, по деревням из пушек били. Я это к тому, товарищ Щербаков, что после усмирения каждый мужик в деревне стоя спал, у каждого сухари на полатях были припасены. Так или по-другому, а все были замараны. А почему? А потому, что доведен был сибирский мужик до краю, а человека на край ставить нельзя, он тогда опасный. Вот и у нас. А когда власть одумалась, ввели правильный налог, не скажу, что легкий, но твердый, лишнего не возьмут. Тогда мужик стал смелеть, я уж говорил, что расширять стали хозяйства, лес сводить и землю в оборот. Нынче хлеба свезли столько, что моих мужиков с последним возом чуть назад не отправили: некуда ссыпать. Разве такое было когда? Три последних года трудящийся мужик хорошо окреп, судьбу за бороду ухватил. И кредиты будем брать под подсильный процент, и технику покупать. Я сразу бы трактор взял, край нужен.
Емельян поднял руку:
– Мирон, друг, да я тебе на трактор без процентов дам!
Мирон улыбнулся:
– Емельян Лазаревич, вот при товарище Щербакове скажу: как только в дружбу вмешалися деньги – дружба делается частью коммерции. Если мне государство предлагает – зачем я буду в карман другу залазить?
Щербаков засмеялся:
– А ведь крестьянин прав, Емельян Лазаревич! Вы очень верно мыслите, товарищ Курбатов.
Мирон встал:
– Тогда разрешите еще один вопрос с вами попробовать решить. Говорили мы о восстании, брат мой младший попал в бандиты, у меня не спросясь. Года два бегал, потом ко мне пришел, я посоветовал идти в органы с повинной. Сказано: согбенную голову и меч не сечет. И грехов за ним вроде больших не нашли, а вот за прятки отвели ему кусок тайги на десять лет. На днях переслал весточку: брат, проси советскую власть, я отработаю на родной земле, а здесь сдохну, потому что морозы и голод.
Щербаков отпил глоток коньяка:
– Сколько он отбыл?
– Половину.
– Пишите от его имени бумагу в суд, они направят запрос по месту отбывания наказания и этапируют брата сюда. Я ничего не обещаю, но скажу, кому надо, чтобы рассмотрели положительно. Теперь, надеюсь, он не враг советской власти?
Мирон радостно махнул рукой:
– У меня не забузует. Откормлю, сразу оженю, домик у меня есть на этот случай, в хозяйство впрягется…
– … да молодая жена! – со смехом добавил Емельян.
Курбатов добавил:
– Одним словом, товарищ Щербаков, я за него головой отвечаю.
– Договорились. Но у меня еще один вопрос по крестьянской линии.
В это время осторожно вошла Зина и что-то шепнула хозяину. Тот резким движением выдернул заправленную под ворот салфетку, встал, извинился перед гостями и вышел. Но вернулся скоро, добродушно улыбаясь:
– Скажите, друзья мои, кому я что плохого сделал? Вчерашней ночью воры забрались в магазин, правда, вынесли самую малость, потому что через чувал. Представьте, господа: печь топлена, чувал горячий, как они там лезли – ума не приложу! Приди, попроси, Колмаков еще никому не отказывал.
Мирон не вытерпел:
– А теперь-то что?
Колмаков махнул рукой:
– Скирду сена на заднем дворе подожгли, негодники, ладно, Охрим в конюшне был, твоего коня обихаживал, в окне отблески увидел, поднял мужиков, снегом закидали. Но сено, конечно пропало. А какое разнотравье было: и клеверок, и овсяночка, и визилек молодой, да люцерна с викой, да тимофеева трава.
Мирон улыбнулся:
– Переживешь. Надо будет – я тебе пару возов лесного сена отправлю. Извините, Всеволод Станиславович, сбил наш разговор хозяин с этим пожаром. Вы что-то хотели спросить?
Щербаков словно очнулся:
– Да, хотел услышать ваше мнение, потому что вижу в вас думающего и расчетливого крестьянина. Сколько в вашем селе хозяйств, которые сеют больше ста десятин?
Курбатов прикинул в уме, ответил осторожно:
– Немного. Пожалуй, десятина полтора.
– А иные?
Мирон тщательно подбирал слова:
– Кто как. Многие сеют для своих нужд, кое-что продадут на потребу. А если в хозяйстве одна лошаденка да соха вместо плуга, а из работников только сам хозяин, остальные детки малые да баба больная, то и пяти десятин не поднять.
Щербаков поднял сухие серые глаза:
– А чем же они живут?
Мирон признался:
– С хлеба на квас. Но мы, товарищ Щербаков, помогаем обществом.
– У вас сколько людей работает?
– По разному, зимой только со скотом, весной поболе на посевной, а в жатву человек пятьдесят. Но я плачу, как положено, мои работники премного довольны.
Щербаков встал, прошелся по комнате. Хозяин притих, понимая, что разговор серьезный.
– А согласились бы вы взять себе под крыло мелкие хозяйства, бедные? Взять их землю, их инвентарь, а их считать не работниками, а вместе с вами и даже под вашим руководством тоже собственниками, хозяевами?
Мирон тоже встал и посмотрел в лицо председателя:
– Вы же понимаете, что добровольно на это никто из хозяев не пойдет.
Щербаков махнул рукой:
– Да понимаю… Но мы должны найти новую форму организации деревенского труда. Советская власть не может допустить, чтобы половина крестьян богатела, а неимущая часть – голодала. Конечно, решения есть, и самое примитивное – отнять у вас и раздать им.
– Проедят или пропьют, – сурово ответил Мирон. – Вы поймите, товарищ Щербаков, беднейших крестьян наших тоже нельзя одним аршином мерить. Есть такие семьи, что могут робить, да нечем. Им бы пару лошадей да пару быков, да корову на пропитание – они оживут. А есть просто ленивые по природе, и дед путем не робил, и отец, и детки такие же. Я дал им лошадь, семена, они до июня пахали, потом сеяли, а осенью я подъехал к этому полю и чуть не заплакал: кочка на кочке, там пучок пшеницы, там второй. Велел отобрать лошадь, а они ее уже продали. Вот что ты с ними будешь делать?!
Щербаков улыбнулся:
– Но это наш народ, наши люди, мы же не можем бросить их на произвол судьбы!
– Какой судьбы! – резко возразил Мирон. – Если человек собрался утопиться, никто его не спасет. Так и они. Я не знаю, кем их определить, только это – не крестьяне. Само по себе, что в деревне живешь, еще крестьянство не определяет.
Щербаков кивнул:
– Это вы точно заметили. У вас в селе есть коммуна?
– Была. В восстание всех коммунаров бандиты согнали в общественную баню и сожгли.
Щербаков кивнул: «Знаю». И после долгого молчания поинтересовался:
– А вы не пытались разобраться в природе такой ненависти, такой жестокости? Коммуна – это один из путей жизни деревни. Почему повстанцы напрочь отвергли этот путь?
Мирон много чего знал о коммуне, и понимал, что не все надо говорить этому человеку. Но главное сказал:
– Государство коммуну сразу поставило выше крестьянина. Вот где была главная ошибка. Трактор – им, семена – им, электростанцию прислали рабочие с Ленинграда – опять же в коммуну. Хлеб они не сдавали, самим едва хватало, скот не держали, за ним работы много. Да они открыто смеялись над единоличниками, что те робят, а жрать нечего, все в налоги. Это самая главная причина ненависти и мести жестокой.
Хозяин молча сидел в кресле и держал во рту давно погасшую сигару. Такой разговор его пугал. Щербаков улыбнулся:
– По вашему, советская власть собрала в коммуны всех лодырей и бездельников?
Мирон взорвался:
– Так, товарищ председатель, оно изначально так было задумано. В коммуну не брали, если ты хозяин, в коммуну собирали беднейшее крестьянство, я даже помню, один уполномоченный сказал, что оно, беднейшее, есть опора советской власти в деревне. Я тогда подумал, что это провокатор какой-то, нет, партийный из уезда. Как может быть опорой то, что само стоять не может?
Щербаков сел в кресло, вытянул ноги, плеснул в ладонь коньяка и протер виски:
– Извините, очень устал сегодня. Но разговор продолжим. Мирон Демьянович, посмотрите вперед лет на пять. Что будет с вашим селом? Куда пойдет сельское хозяйство?
Мирон, конечно, знал ответ на этот вопрос, сам с собой и другими крепкими хозяевами не раз толковали об этом. Мирон верил, что нынешняя политика сохранится навсегда, но некоторые возражали: не потерпит власть обогащения одних и обнищания других. Были и такие, кто советской власти верил, но за ее спиной видел новую силу, партию большевиков, а у них ненависть к буржуям всех мастей с самого рождения. Они против бога, против наемного труда и против частной собственности. Партию пока не очень видно, бумаги в основном идут из исполкомов, а что, если она выйдет на первое место? И Мирон решил развернуть разговор:
– Товарищ Щербаков, вы председатель исполкома и большевик, руководитель советской власти и в то же время член партии большевиков. Как это понимать?
Всеволод Станиславович едва скрывал удивление:
– А что вас в этом смущает? Партия совершила революцию и создала советскую власть. Власть от слова совет.
Мирон грустно улыбнулся:
– Да, когда продразверстка шла, один чудак наш кричал, что не может советская власть издать такой указ, что весь хлеб выгребать из сусека, потому что она происходит от слова совесть.
– И отняли у него хлеб? – осторожно поинтересовался Щербаков.
– Его чуваш из продотряда прямо на мешках застрелил.
– Да, помню такой случай. Но вернемся к партии. Она вырабатывает тактику и стратегию хозяйственного строительства. Сейчас остро стоит вопрос о деревне. Вот вы, Мирон Демьянович, возможно, первый виденный мною настоящий деревенский капиталист. Когда партия принимала решение о введении новой экономической политики, когда она признала продразверстку грубейшей ошибкой после массовых и весьма опасных выступлений крестьян, так вот, тогда партия понимала, что она идет на серьезный политический риск, товарищ Ленин прямо сказал: «Либо мы их, либо они нас».
Мирон не понял:
– Кто – кого? Кого конкретно имел в виду Ленин?
– Меня и вас. Либо я, большевик, разверну дело в деревне таким образом, что все будут трудиться и результаты делить в соответствии с вложенными усилиями, либо вы заставите со временем всю деревню работать на вас. Я понятно излагаю?
Мирон кивнул:
– Да уж куда понятней! А я до сегодняшнего дня был уверен, что делаю свою работу во благо государства, России, стало быть.
Щербаков поправил:
– Точнее бы сказать: Советского Союза.
Курбатов словно очнулся:
– Значит, следует ожидать перемен. Может, зря я за новыми семенами спешил? Разведу добрую рожь, придут Серега Раздорский с Афоней Синеоким, и все заберут.
Щербаков понял, что высказал лишнее, поспешил в пылу спора, и попытался смягчить возникшие у крестьянина догадки:
– Мирон Демьянович, вы говорите о крайностях. Есть же варианты, я о них говорил, вопрос тщательно изучается. А Синеокий – это фамилия такая?
Курбатов не стал заигрывать:
– Прозвище. Он какой-то несчастливый: как выпьет – обязательно синяк под глаз схлопочет.
– А почему именно он может прийти?
– Так он секретарь партячейки.
Щербаков смутился:
– Бардак в уездном комитете партии, таких людей держат на серьезных должностях.
Наконец, голос подал хозяин:
– Друзья мои, разговоры о политике, как и о боге, несовместимы с винопитием, но давайте хоть по доброй рюмке водочки. Закуска вся остыла.
Выпили. Мирон подошел к Щербакову:
– Мозги вы мне хорошо прочистили, я прямо вживе вижу, как будет гибнуть мое хозяйство.
Щербаков ответил спокойно:
– Мирон Демьянович, не надо утрировать мои слова, никакой паники, живите и работайте. Хорошо, что вы понимаете неизбежность перемен. Никто пока не знает, в каком виде эта ломка будет проходить, но она будет непременно. Вы, конечно, понимаете, Мирон Демьянович, что это сугубо закрытый разговор, мы обменялись мнениями, я вас понял, вы меня. И все остается в этой комнате.
Он вынул карманные часы и хлопнул крышкой:
– Я прощаюсь. За мной пришла машина. Спасибо за приятный вечер. Мое обещание по вашему брату остается в силе.
Хозяин пошел провожать гостя, Мирон налил большой бокал водки и залпом выпил. Было слышно, как загудела машина, хлопнула входная дверь, Емельян тоже налил бокал коньяка, потянулся с бутылкой к Мирону, тот отвел руку. Помолчали.
– Ты, купец последней гильдии, ты понял, что тебе разрешили разбогатеть временно? Понимаешь? И мне тоже. Они скоро объявят конец этому гребаному НЭПу, а заодно и нам с тобой. Красиво надрал нас товарищ Ленин: вернуть частную собственность, разрешить наемный труд. Это же значит только одно: у него не хватило ума, чтобы управиться с такой страной, урвал кусок, и чуть не подавился, а когда народ тряханул в двадцать первом, он был на все согласен, вплоть до НЭПа. Говори, ты и так весь вечер голоса не подал.
Колмаков посмотрел на друга с грустью:
– Я научен, Мирон, чем громче молчишь, тем дольше проживешь.
Курбатов вскочил:
– Уж не думаешь ли ты, купец первой гильдии, что под крылышком знакомого чиновника усидишь? Поимей в виду, у этих людей друзей нет, у них идея, а если ты под нее не подходишь – в расход.
Емельян посмотрел на гостя и приказал:
– Спать. Говорить будем завтра. Тебе которую послать из тех, что стол обслуживали?
– Зина ее зовут?
Колмаков засмеялся:
– Э-э-э! Зина моя, я женюсь на ней. Да, губа у тебя толковая.
Гость безразлично махнул рукой:
– Тогда никого не надо. Я сплю.
Они сходили на крыльцо, вдохнули свежего воздуха, Мирон разделся, достал сложенную простыню и плед, лег и сразу провалился в глубокий нетрезвый сон.