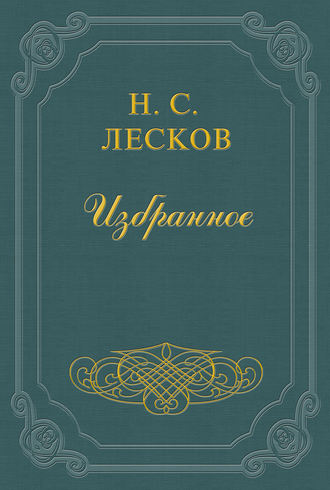
Николай Лесков
Святочные рассказы (цикл)
Глава девятая
Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивши, и как я пришел, то и мне сейчас подают покал с вином и говорят:
– Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь.
И разное такое под вином говорят, чего дело совсем и не стоит.
Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье, а более, говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему не привычен, да и такой компании не заслуживаю.
А страшный барин из первого номера отвечает:
– Ты, братец, осел, и дурак, и скотина, – ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил, в этот мясоед и свадьба моя будет.
– Желаю, – говорю, – вам и будущей супруге вашей принять закон в полном счастии.
– А ты за это выпей.
Я не мог отказаться и выпил, но дальше прошу отпустить.
– Хорошо, – говорит, – только скажи мне, где ты живешь и как тебя звать по имени, отчеству и прозванию: я хочу твоим благодетелем быть.
Я отвечаю:
– Звать меня Василий, по отцу Кононов сын, а прозванием Лапутин, и мастерство мое тут же рядом, тут и маленькая вывеска есть, обозначено: «Лапутин».
Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатились; а барин, которому я фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. А он подтолкнул меня выступком к двери да за порог и выбросил.
Ничего я понять не мог, и дай бог скорее ноги.
Прихожу, а жена спрашивает:
– Говори скорее, Васенька: как мое счастье тебе послужило?
Я говорю:
– Ты меня, Машенька, во всех частях подробно не расспрашивай, но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин.
Жена встревожилась, – что, как и за какую провинность? – а я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю.
Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сеничках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель.
Мы оба встали с мест и на него смотрим, а он, раскрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор на долгом топорище, а в другой поколотую в щепы дощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного рукомесла и фамилии: «Старье чинит и выворачивает Лапутин».
Глава десятая
Вошел барин с этими поколотыми досточками и прямо кинул их в печку, а мне говорит: «Одевайся, сейчас вместе со мною в коляске поедем, – я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у вас есть, как эти доски поколю».
Я думаю: чем с таким дебоширом спорить, лучше его скорее из дома увести, чтобы жене какой обиды не сделал.
Торопливо оделся, – говорю жене: «Перекрести меня, Машенька!» – и поехали. Прикатили в Бронную, где жил известный покупной, сводчик Прохор Иваныч, и барин сейчас спросил у него:
– Какие есть в продажу дома и в какой местности, на цену от двадцати пяти до тридцати тысяч или немножко более. – Разумеется, по-тогдашнему, на ассигнации. – Только мне такой дом требуется, – объясняет, – чтобы его сию минуту взять и перейти туда можно.
Сводчик вынул из комода китрадь, вздел очки, посмотрел в один лист, в другой, и говорит:
– Есть дом на все виды вам подходящий, но только прибавить немножко придется.
– Могу прибавить.
– Так надо дать до тридцати пяти тысяч.
– Я согласен.
– Тогда, – говорит, – все дело в час кончим, и завтра въехать в него можно, потому что в этом доме дьякон на крестинах куриной костью подавился и помер, и через то там теперь никто не живет.
Вот это и есть тот самый домик, где мы с вами теперь сидим. Говорили, будто здесь покойный дьякон ночами ходит и давится, но только все это совершенные пустяки, и никто его тут при нас ни разу не видывал. Мы с женою на другой же день сюда переехали, потому что барин нам этот дом по дарственной перевел; а на третий день он приходит с рабочими, которых больше как шесть или семь человек, и с ними лестница и вот эта самая вывеска, что я будто французский портной.
Пришли и приколотили и назад ушли, а барин мне наказал:
– Одно, – говорит, – тебе мое приказание: вывеску эту никогда не сметь переменять и на это название отзываться. – И вдруг вскрикнул:
– Лепутан!
– Чего изволите?
– Молодец, – говорит. – Вот тебе еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутан, – заповеди мои соблюди, и тогда сам соблюден будеши, а ежели что… да, спаси тебя господи, станешь в своем прежнем имени утверждаться, и я узнаю… то во первое предисловие я всего тебя изобью, а во-вторых, по закону «дар дарителю возвращается». А если в моем желании пребудешь, то объясни, что тебе еще надо, и все от меня получишь.
Я его благодарю и говорю, что никаких желаниев не имею и не придумаю, окромя одного – если его милость будет, сказать мне: что все это значит и за что я дом получил?
Но этого он не сказал.
– Это, – говорит, – тебе совсем не надо, но только помни, что с этих пор ты называешься – «Лепутан», и так в моей дарственной именован. Храни это имя: тебе это будет выгодно.
Глава одиннадцатая
Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что все это жениным счастием, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина и вдруг остановились и входят.
Жена спрашивает:
– Что прикажете?
Они отвечают:
– Нам нужно самого мусье Лепутана.
Я выхожу, а они переглянулись, оба враз засмеялись и заговорили со мною по-французски.
Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.
– А давно ли, – спрашивают, – вы стали под этой вывеской?
Я им сказал, сколько лет.
– Ну так и есть. Мы вас, – говорят, – помним и видели: вы одному господину под Новый год удивительно фрак к балу заштопали и потом от него при нас неприятность в гостинице перенесли.
– Совершенно верно, – говорю, – был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел, но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто.
Они мне сказали его имя, а фамилия его, прибавили, – Лапутин.
– Как Лапутин?
– Да, разумеется, – говорят, – Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывеске не было.
– Представьте, – говорю, – а мы о ею пору ничего этого понять не могли; благодеянием пользовались, а словно как в потемках.
– Но, однако, – продолжают мои гости, – ему от этого ничего не помоглося, – вчера с ним новая история вышла.
И рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.
Глава двенадцатая
Жена Лапутина, которой они сделали предложение в заштопанном фраке, была еще щекотистее мужа и обожала важность. Сами они оба были не бог весть какой породы, а только отцы их по откупам разбогатели, но искали знакомства с одними знатными. А в ту пору у нас в Москве был главнокомандующим граф Закревский, который сам тоже, говорят, был из поляцких шляхтецов, и его настоящие господа, как князь Сергей Михайлович Голицын, не высоко числили; но прочие обольщались быть в его доме приняты. Моего прежнего однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, бог их знает почему, им это долго не выходило, но, наконец, нашел господин Лапутин сделать графу какую-то приятность, и тот ему сказал:
– Заезжай, братец, ко мне, я велю тебя принять, скажи мне, чтобы я не забыл: как твоя фамилия?
Тот отвечал, что его фамилия – Лапутин.
– Лапутин? – заговорил граф, – Лапутин… Постой, постой, сделай милость, Лапутин… Я что-то помню, Лапутин… Это чья-то фамилия.
– Точно так, – говорит, – ваше сиятельство, это моя фамилия.
– Да, да, братец, действительно это твоя фамилия, только я что-то помню… как будто был еще кто-то Лапутин. Может быть, это твой отец был Лапутин?
Барин отвечает, что его отец был Лапутин.
– То-то я помню, помню… Лапутин. Очень может быть, что это твой отец. У меня очень хорошая память; приезжай, Лапутин, завтра же приезжай; я тебя велю принять, Лапутин.
Тот от радости себя не помнит и на другой день едет.
Глава тринадцатая
Но граф Закревский память свою хотя и хвалил, однако на этот раз оплошал и ничего не сказал, чтобы принять господина Лапутина.
Тот разлетелся.
– Такой-то, – говорит, – и желаю видеть графа.
А швейцар его не пущает:
– Никого, – говорит, – не велено принимать.
Барин так-сяк его убеждать, – что «я, – говорит, – не сам, а по графскому зову приехал», – швейцар ко всему пребывает нечувствителен.
– Мне, – говорит, – никого не велено принимать, а если вы по делу, то идите в канцелярию.
– Не по делу я, – обижается барин, – а по личному знакомству; граф наверно тебе сказал мою фамилию – Лапутин, а ты, верно, напутал.
– Никакой фамилии мне вчера граф не говорил.
– Этого не может быть; ты просто позабыл фамилию – Лапутин.
– Никогда я ничего не позабываю, а этой фамилии я даже и не могу позабыть, потому что я сам Лапутин.
Барин так и вскипел.
– Как, – говорит, – ты сам Лапутин! Кто тебя научил так назваться?
А швейцар ему отвечает:
– Никто меня не научал, а это наша природа, и в Москве Лапутиных обширное множество, но только остальные незначительны, а в настоящие люди один я вышел.
А в это время, пока они спорили, граф с лестницы сходит и говорит:
– Действительно, это я его и помню, он и есть Лапутин, и он у меня тоже мерзавец. А ты в другой раз приди, мне теперь некогда. До свидания.
Ну, разумеется, после этого уже какое свидание?
Глава четырнадцатая
Рассказал мне это maître tailleur Lepoutant с сожалительною скромностью и прибавил в виде финала, что на другой же день ему довелось, идучи с работою по бульвару, встретить самого анекдотического Лапутина, которого Василий Коныч имел основание считать своим благодетелем.
– Сидит, – говорит, – на лавочке очень грустный. Я хотел проюркнуть мимо, но он лишь заметил и говорит:
– Здравствуй, monsieur Lepoutant! Как живешь-можешь?
– По божьей и по вашей милости очень хорошо. Вы как, батюшка, изволите себя чувствовать?
– Как нельзя хуже; со мною прескверная история случилась.
– Слышал, – говорю, – сударь, и порадовался, что вы его по крайней мере не тронули.
– Тронуть его, – отвечает, – невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит; но я хочу знать: кто его подкупил, чтобы мне эту подлость сделать?
А Коныч, по своей простоте, стал барина утешать.
– Не ищите, – говорит, – сударь, подучения. Лапутиных, точно, много есть, и есть между них люди очень честные, как, например, мой покойный дедушка, – он по всей Москве стелечки продавал…
А он меня вдруг с этого слова враз через всю спину палкою… Я и убежал, и с тех пор его не видал, а только слышал, что они с супругой за границу во Францию уехали, и он там разорился и умер, а она над ним памятник поставила, да, говорят, по случаю, с такою надписью, как у меня на вывеске: «Лепутан». Так и вышли мы опять однофамильцы.
Глава пятнадцатая
Василий Коныч закончил, а я его спросил: почему он теперь не хочет переменить вывески и выставить опять свою законную, русскую фамилию?
– Да зачем, – говорит, – сударь, ворошить то, с чего новое счастье стало, – через это можно вред всей окрестности сделать.
– Окрестности-то какой же вред?
– А как же-с, – моя французская вывеска, хотя, положим, все знают, что одна лаферма, однако через нее наша местность другой эфект получила, и дома у всех соседей совеем другой против прежнего профит имеют.
Так Коныч и остался французом для пользы обывателей своего замоскворецкого закоулка, а его знатный однофамилец без всякой пользы сгнил под псевдонимом у Пер-Лашеза.
Впервые опубликовано – «Газета А. Гатцука», 1882.
Жидовская кувырколлегия
Глава первая
Дело было на святках после больших еврейских погромов. События эти служили повсеместно темою для живых и иногда очень странных разговоров на одну и ту же тему: как нам быть с евреями? Куда их выпроводить, или кому подарить, или самим их на свой лад переделать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практические из собеседников встречали в обоих этих случаях неудобство и более склонялись к тому, что лучше евреев приспособить к своим домашним надобностям – по преимуществу изнурительным, которые вели бы род их на убыль.
– Но это вы, господа, задумываете что-то вроде «египетской работы», – молвил некто из собеседников… – Будет ли это современно?
– На современность нам смотреть нечего, – отвечал другой: – мы живем вне современности, но евреи прескверные строители, а наши инженеры и без того гадко строят. А вот война… военное дело тоже убыточно, и чем нам лить на полях битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.
С этим согласились многие, но только послышались возражения, что евреи ничего не стоят как воины, что они – трусы и им совсем чужды отвага и храбрость.
А тут сидел один из заслуженных военных, который заметил, что и храбрость, и отвагу в сердца жидов можно влить.
Все засмеялись, и кто-то заметил, что это до сих пор еще никому не удавалось.
Военный возразил:
– Напротив, удавалось, и притом с самым блестящие результатом.
– Когда же это и где?
– А это целая история, о которой я слышал от очень верного человека.
Мы попросили рассказать, и тот начал.
– В Киеве, в сороковых годах, жил некто полковник Стадников. Его многие знали в местном высшем круге, образовавшемся из чиновного населения, и в среде настоящего киевского аристократизма, каковым следует, без сомнения, признавать «киевских старожилых мещан». Эти хранили тогда еще воспоминания о своих магдебургских правах и своих предках, выезжавших, в силу тех прав, на днепровскую Иордань верхом на конях и с рушницами, которые они, по команде, то вскидывали на плечо, то опускали «товстым кинцем до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей киевской знати именовали Стадникова «Штаниковым»; так, вероятно, на их вкус выходило больше «по-московски» или, просто, так было легче для их мягкого и нежного произношения.
Стадников пользовался в городе хорошею репутациею и добрым расположением; он был отличный стрелок и, как настоящий охотник, сам не ел дичи, а всегда ее раздаривал. Поэтому известная доля общества была даже заинтересована в его охотничьих успехах. Кроме того, полковник был, что называется, «приятный собеседник». Он уже довольно прожил на своем веку; честно служил и храбро сражался; много видел умного и глупого и при случае умел рассказать занимательную историйку.
В рассказах Стадников всегда держался короткого, так сказать, лапидарного стиля, в котором прославился король баварский, но наивысшего совершенства, по моему мнению, достиг Степан Александрович Хрулев.
Стадников, впрочем, и с вида был похож на Хрулева да имел и некоторые другие, сходные с ним, черты. Так, он, например, подобно Хрулеву, мог играть в карты без сна и без отдыха по целой неделе. Соперников по этой выносливости у него во всем Киеве не было ни одного, но были только два, достойные его сил, партнера. Один из них был просто иерей, а другой – протоиерей. Первого из них звали Евфимием, а другого – Василием. Оба они были люди предобрые и пользовались в городе большою известностью, а притом обладали как замечательными силами физическими, так и дарами духовными. Но при всем том полковник далеко превосходил их в выносливости и однажды до того их спутал, что отец протоиереи, перейдя от карточного стола к совершению утреннего служения, не вовремя позабылся и, вместо положенного возгласа: «яко твое царство», – возгласил причетнику: «пасс!»
Впрочем, в доброй компании, которая состояла из этих трех милых людей, не только делали, что играли: случалось, что они иногда отрывались от карт для других занятий, например, закусывали и кое о чем говорили. Рассказывал, впрочем, по преимуществу, более один Стадников и как некоторые примечали, он, будто бы, как рассказчик, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцвечал» свои повествования, или, как по-охотницки говорится, немножко привирал, но ведь без этого и невозможно. Довольно того, что полковник делал это так складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать от действительной основы. Притом же Стадников был неуступчив и переспорить его было невозможно. Рассказывали, будто полковник победоносно выходил из всевозможных в этом роде затруднений до того, что его никто никогда не останавливал и ему не возражали; да это и было бесполезно. Один раз полковник ошибкой или по увлечению сказал, будто он имел где-то в степях ордынских овец, у которых было по пуду в курдюке, а некто, случившийся здесь, перехватил еще более, что у его овец по пуду слишком… Полковник только посмотрел на смельчака и спросил с состраданием:
– Да, но что же такое было в хвостах у ваших овец?
– Разумеется, сало, – отвечал собеседник.
– Ага, то-то и есть! А у моих был воск!
Тем и покончил. Разумеется, с таким человеком спорить было невозможно, но слушать его приятно.
Говорить здесь любили о материях важных, и один раз тут при мне шла замечательная речь о министрах и царедворцах, причем все тогдашние вельможи были подвергаемы очень строгой критике; но вдруг усилием одного из иереев был выдвинут и высокопревознесен Николай Семенович Мордвинов, который «один из всех» не взял денег жидов и настоял на призыве евреев к военной службе, наравне со всеми прочими податными людьми в русском государстве.
История эта, сколько помню, излагалась тогда таким образом.
Когда государь Николай Павлович обратил внимание на то, что жиды не несут рекрутской повинности, и захотел обсудить это с своими советниками, то жиды подкупили, будто, всех важных вельмож и согласились советовать государю, что евреев нельзя орать в рекруты на том основании, что «они всю армию перепортят». Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который был хоть и не богат, да честен, и держался насчет жидов таких мыслей, что если они живут на русской земле, то должны одинаково с русскими нести все тягости и служить в военной службе. А что насчет порчи армии, то он этому не верил. Однако евреи все-таки от своего не отказывались и не теряли надежды сделаться как-нибудь с Мордвиновым: подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкого графу бедного родственника и склонили его за немалый дар, чтобы он упросил Мордвинова принять их и выслушать всего только «два слова»; а своего слова он им мог ни одного не сказать. Иначе дали намек, что они все равно, если не так, то иначе графа остепенят.
Бедный родственник соблазнился, принял жидовские дары и говорит графу Мордвинову:
– Так и так, вы меня при моей бедности можете осчастливить.
Граф спрашивает:
– Что же для этого надо сделать, какую неправду?
А бедный родственник отвечает:
– Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы для меня два жидовские слова выслушали и ни одного своего не сказали. Через это, – говорит, – и вам собственный покой и интерес будет.
Граф подумал, улыбнулся и, как имел сердце очень доброе, то отвечал:
– Хорошо, так и быть, я для тебя это сделаю: два жидовские слова выслушаю и ни одного своего не скажу.
Родственник побежал к жидам, чтобы их обрадовать, а они ему сейчас же обещанный дар выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривен за штуку, только не прямо из рук в руки кучкой дали, а каждый лобанчик по столу, покрытому сукном, перешмыгнули, отчего с каждого золотого на четвертак золотой пыли соскочило и в их пользу осталось. Бедный же родственник ничего этого не понял и сейчас побежал себе домик купить, чтобы ему было где жить с родственниками. А жиды на другое же утро к графу и принесли с собою три сельдяных бочонка.
Камердинер графский удивился, с какой это стати графу селедки принесли, но делать было нечего, допустил положить те бочонки в зале и пошел доложить графу. А жиды, меж тем, пока граф к ним вышел, эти свои сельдяные бочонки раскрыли и в них срезь с краями полно золота. Все монетки новенькие, как жар горят, и биты одним калибром: по пяти рублей пятнадцати копеек за штуку.
Мордвинов вошел и стал молча, а жиды показали руками на золото и проговорили только два слова: «Возьмите, – молчите», а сами с этим повернулись и, не ожидая никакого ответа, вышли.
Мордвинов велел золото убрать, а сам поехал в государственный совет и, как пришел, то точно воды в рот набрал – ничего не говорит… Так он молчал во все время, пока другие говорили и доказывали государю всеми доказательствами, что евреям нельзя служить в военной службе. Государь заметил, что Мордвинов молчит, и спрашивает его:
– Что вы, граф Николай Семенович, молчите? Для какой причины? Я ваше мнение знать очень желаю.
А Мордвинов будто отвечал:
– Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидам продался.
Государь большие глаза сделал и говорит:
– Этого быть не может.
– Нет, точно так, – отвечает Мордвинов: – я три сельдяные бочонка с золотом взял, чтобы ни одного слова правды не сказывать.
Государь улыбнулся и сказал:
– Если вам три бочонка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тем, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь без дальних слов покончим.
И с этим взял со стола проект, где было написано, чтобы евреев брать в рекруты наравне с прочими, и написал: «быть по сему». Да в прибавку повелел еще за тех, кои, если уклоняться вздумают, то брать за них трех, вместо одного, штрафу.
Кажется, это построено слишком по австрийскому анекдоту, известному под заглавием: «одно слово министру…». Из этого давно сделана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрах и близко знакома русским по Превосходному исполнению Самойловым трудной мимической роли жида; но в то время, к которому относится мой рассказ, этот слух ходил повсеместно, и все ему вполне верили, и русские восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.
Анекдот этот был целиком вспомянут в той задушевной беседе полковника Стадникова с иереями Василием и Евфимием, с которой начинается наш рассказ, и отсюда речь повели далее.
Не любивший делать в чем бы то ни было уступки, полковник не выдержал и сказал:
– Да, эта песня всем знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знает, что все бы это ни к чему еще не повело, если бы в это дело не вмешался еще один человек. – И неуступчивый полковник сейчас же пояснил, что Мордвинов настроил это дело только в теории, а на самом исполнении оно еще могло погибнуть. И в этой своей, гораздо более важной, части оно спасено другим лицом, с которым Мордвинов, по справедливости, должен бы поделиться честью. Но как справедливости нет на земле, то этот достойный человек не только ничем не награжден, но даже остается в полнейшей неизвестности.
– А кто же это такой? – вопросили оба иерея.
– Это один простодушный кромчанин незнатного происхождения, по имени Симеон Машкин или Мамашкин, – судя по фамилии, должно быть, сын пылкой, но незаконной любви, которому я дал за всю его патриотическую услугу три гривенника, да и те ему впрок не пошли.
Отцы иереи вспомнили, как полковник спорил про бараньи курдюки, и сказали:
– Ну, это вы, вероятно, опять что-нибудь такое, из чего воск выйдет.
Но полковник отвечал, что это не воск, а история, и притом самая настоящая, самая правдивая история, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидетельствует о ясном уме и глубокой сообразительности человека из народа.
– Ну, так подавайте вашу историю и, если она интересна, мы ее охотно послушаем.
– Да, она очень интересна, – сказал Стадников и, перестав тасовать карты, начал следующее повествование.







