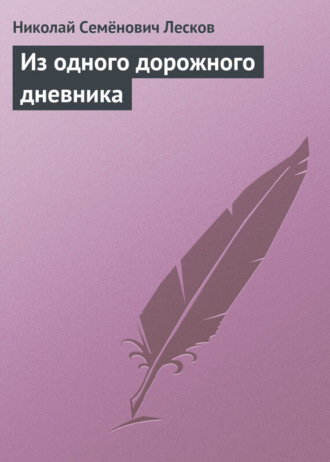
Николай Лесков
Из одного дорожного дневника
– А может быть, и с голода издох, – добавил крестьянин после небольшой паузы.
– Как же это он задел рога и вынуть не мог? Ведь они же у него к концу уже.
– Ну, или вширь как завязил, или не умел полегоньку вынуть, все рвал досадуючи, а коренья крепкие, догадки же нагнуться не было. Зверь, хоть дорогой, но все же глупый.
– Поймать его легко или нет?
– Пустое дело: сгородил станочек да положил сена, он и придет; запирай сзади да веди. Так их и ловили, кому там их отсылали, не знаю, королю какому или генералу.
– Чего ж ему идти на сено, когда оно у него есть в лесу?
– Какое там сено?
– Вы же готовите, осокою, как ты говоришь?
– Это даровая работа! Пустое дело с этим сеном.
– Отчего?
– Первое, что его на всех зубров не наготовишь, а второе, что они его сразу все попсуют (попортят): нажрутся, да давай копать его, да кататься на нем, спать разлягутся, все перемочат, перегадят под ногами, да так оно в снегу да в грязи и гноится. Шкода (жаль) работы только, – прибавил он, вздохнувши.
– А в скольких местах кладут сено по пуще?
– Бог их знает, только везде, все одно, сено это зубрам не в помощь. Сгубят сразу все сено и пошли целую зиму кору глодать; пока снег мал, еще осинки молодые скусывают, а там пухнут с голоду на одной коре. В эту-то пору они и к мужикам, на скирдники таскаются, только берегись: все в одну ночь слопают и в леса соседние разбредутся.
– И живут они в соседних лесах или назад идут?
– В Свислочской даче их пропасть живет и вот в нашем маленьком леску, а пара что-то года с два жила, да нет ее теперь. Либо волки загнали, либо в пущу опять вскочили. А то было какие смелые стали; скот наш деревенский пасется, они выйдут да смотрят.
– А ни с коровами, ни с быками не паровались?
– Нет. Наша скотина мелкая, а они какие ведь черти! Где с ними? Он нашу корову просто задушит. Вот у пана тут одного, так спаровали зубра с коровою, потому что крупная, хорошая, так этакая телка зародилась! Рослая, красивая, здоровая, на диво. Только к молоку, говорят, нехороша.[21]
– Нехороша, говоришь, к молоку?
– Да ведьма ее, говорят, испортила.[22]
– Вы все сочиняете.
– Нет, это верно. А вы, пане, смеетесь над ведьмами? Ой! Я пану на это не даю рады (совета). Лихие шельмы, Боже крый от них.
– И людей, стало, они портят?
– Нет, все больше коров да пчел.
– Ну, у меня ни коров, ни пчел нет. А у вас пчел много?
– Нет, мало стало, переводятся борти.
– Что так? Ведьмы, что ли?
– От, и лету им нет, отбиваются все.
Здешние крестьяне верят, что пчелы состоят под особым покровительством невидимых сил. Этому же верят также и в серединной России. В Орловской, например, губернии верят, что есть пчелы, от Бога присланные, и есть загнанные сатаною, вследствие слова, которое знает хозяин. Пчелы от роев, загнанных сатаною, всегда очень сильны и побивают других; но от них хозяин никогда не смеет дать части в церковь (кануну), и купцы «с крещеной душою» будто бы распознают мед от дьявольских пчел и не продают такого воска на церковные свечи, а свозят «в жидовские места» и на фабрики. Действительно, и из крестьян Кромского уезда я знаю пчеловодов, которые ни за что не дают своего меда на канун в церковь; но что им внушает сопротивление общему обычаю тамошних крестьян-пчеловодов, – не знаю.
– А леса вам дают? – полюбопытствовал я у крестьянина.
– Спросить нужно, так дают, по усмотрению.
– А сверх усмотрения?
– Нельзя. Разве пан не видел шлагбавы за нашей деревней?
Я вспомнил, что действительно мы проезжали шлагбаум; что долго звали живущего там стрелка и что нас пропустили, не осматривавши.
– Там смотрят, чтобы ничего не взяли из пущи.
– А мимо шлагбаума?
– Ну, это как кому хочется, – отвечал извозчик, повернувшись ко мне и оскалив зубы. – Да не стоит, – прибавил он, дернув вожжами.
«Разве что так!» – подумал я.
В шерешевское сельское управление приехали очень поздно. Писарь в чемарке встретил нас с заспанными глазами. Приемной комнаты нет. Я улегся на столе, а мой товарищ нашел это импровизированное ложе неудобным, сказав, что «на столе еще належишься», принял половину капли Rhus в сотом делении и в полной униформе погрузился в настланное для него соломенное море.
18-го сентября, г. Пружаны.
Утро прошло презабавно. Проснулись мы от крика в еврейской школе, стоящей около сельского управления. Писарь, услыхав наше неудовольствие, сказал по-польски: «Поганый народ эти жиды!» Спутник мой, ругающий жидов вразобь, вступился за избранное племя, когда его коснулись оптом, и начался спор. Доводы сыпались с той и с другой стороны; но победа, в моих глазах, клонилась на сторону моего товарища, несмотря на то что он затруднялся в выражениях на польском языке. Писарь убедился в том, что и он, и его сослуживцы, и все его приятели бьют баклуши, когда евреи работают.
– Это все так, вельможный пане, однако все же они подлые.
– Чем же подлые?
– До рук все дела забрали.
– Ну, вот, извольте с ними разговаривать! – возразил мой товарищ, обратившись ко мне.
– Что же! Это не я один, а весь свет знает, – отвечал писарь.
– Еще и целый свет! А вы… весь свет тоже знает, что вы лентяи.
Писарь глупо осклабился, однако не согласился, что евреи «не подлые», и «не поганые».
В шерешевском сельском управлении я встретил редкости, восстановившие меня некоторым образом против Сырокомли. Он, рассказывая о литовском Полесье, говорит, что
Żaden nowy obyczaj, zaden wymysł świezy,
Nie przemienił ich mowy, ni kształtów odziezy;
Zaden nowy duch wieku nie przyłożył ręki,
By zmienić bicie serca albo takt piosenki.
Jak przed wieki nosiły Słowiańskie narody,
Takie nosza sukmany, takie samy brody,
Takie same sieriery, któremi dąb walą,
Takie same cerkiewki, w których Boga chwala,
Tak samo ich posila miód, jadła i ryba,
Nie tutaj nie przybyło – trochę nędzy chyba.[23]
Шерешевский писарь рассказывал мне историю крестьян, убивших зубра во время голодного года. Они были братья, голод терзал их семейства и угрожал им голодною смертью; начальство хлопотало о покупке хлеба, посылало за ним в Пинск и даже на Волынь; но пока что было, крестьяне решились ни отчаянные средства. Они начали бить зубров; двое, пойманные стрелками, во время самого убийства зверя, и наказаны.
– А теперь не бьют зубров? – спросил я.
– Нет, теперь не бьют.
– А шкуры зубровые откуда попадаются?
– Уже о том не знаю.
В Пружаны меня повез очень веселый мужик с неприятно-сладострастным, чувственным выражением лица. Я первый раз видел такое лицо в Литве.
– Видал ты зубров?
– Ой-ой! Еще сколько.
– А к вам они заходят?
– Отчего не заходят?
– И часто?
– Года с три уж не было, а то так заходили. Тут один старик три года жил.
– Где ж он делся?
– Бог его знает.
– Может, убили.
– Может, и убили.
– А у вас много дичи?
– Стрелки бьют, а мы не ходим за этим.
– Отчего так?
– Так, и ружей нет, и часу нет.
– А стрелкам?
– Им что делать, как не таскаться?
– Что ж они бьют?
– Сарн, данелек, что попадется.
– Да это ж не позволено.
– Вот будут они глядеть!
Народа очень много едет все по одному направлению. «Это от праздника», – говорит извозчик.
– Какой же был праздник?
– Чахнохрист.
– Какой?
– Чахнохрист.
– Чахнохрист? – переспросил я, удивленный новым, неизвестным мне именем праздника.
– Чахнохрист, Чахнохрист зовется, пане.
Господи, что же это за праздник? Добивался, добивался, и узнаю, что это Воздвижение креста (14-го сентября).
Г. Пружаны замечательны во многих отношениях. Во-первых, там есть мостовая, которая лучше мостовой во многих губерниях России. Во-вторых, тем, что в нем обретаются красивые мужские и женские лица, которых не видишь почти с третьей станции от Петербурга. В-третьих, там есть нечто вроде табльдота и строится большой каменный костел, и против него уныло стоит ветхая православная церковь. И, наконец, тем, что приехать сюда очень легко, а выехать необыкновенно трудно. В Пружанах есть четыре почтовые лошади, на которых отвозят почту в Кобрин, но проезжающим их не дают, и потому проезжающий на почтовых в Пружаны должен выбираться отсюда как ему угодно. Иногда уезжают на лошадях еврейских, а когда у евреев праздники или шабаши, тогда сидят у моря и ждут погоды.
Прелесть этого положения мы изведали на себе. Приехав в Пружаны в десять часов утра, мы тотчас же послали за обывательскими лошадями, которые должны были отвезти нас до Загребова, откуда начинается непрерывное почтовое сообщение с Пинском. Товарищ мой отправился к живущему в Пружанах маршалку, у которого он за год перед сим каплею аконита избавил от наглой (скоропостижной) смерти каретного коня, а я завернулся в свитку и залег спать в холодной комнате и на голодный желудок. Проснувшись в три часа, я сходил пообедал, осмотрел пружанскую церковь. Осведомлялся у дьячка о том, действительно ли праздник Воздвижения крестьяне называют чахнохристом? Оказалось, что это действительно так. В ожидании лошадей до десяти часов вечера разговаривал я с хозяином. Здешние евреи все ждут железной дороги из Пинска в Белосток, которая, по их соображениям, будет иметь великое значение для литовского края. Они ожидают, что из Пинска и запинского края (Pinszczyzïу) пойдут на Варшавскую железную дорогу хлеба из Волыни, свиньи, которых из Пинска забирают теперь и гонят в Царство Польское мазуры, и крымская соль, которую во всем здешнем крае предпочитают соли, доставляемой из Гродна. Теперь все это идет фурманами и потому, разумеется, идет не очень шибко, хотя крестьяне постоянно занимаются фурманством. Наш пружанский хозяин имел дела со строителями Варшавской железной дороги и вообще человек опытный в подрядах. Он не хочет верить, что можно выстроить железную дорогу не дороже 35000 руб. за версту, как надеются выстроить Литовскую железную дорогу до самого места соединения ее с Варшавскою железною дорогою, стоящею по 105000 руб. сер<ебром> верста. Он начал выкладывать цены ужасно высокие и не хотел верить, что когда-нибудь не нужно будет темных расходов. Разуверится ли он?.. Не знаю, что еще больше записать о моем пребывании в Пружанах; разве то, что здесь я видел один образец литовского артистократического хлебосольства и имел случай искренно порадоваться от всего сердца, что я родился от племени, которое хотя и не ведет своего родословного дерева от римских гусей, но никогда не оставляло холодным и голодным ни прохожего, ни проезжего, не разбирая, какому Богу он верует. Я вспомнил солдатиков с польским выговором, которых радушно принимали в Пензе и Саратове, вспомнил многое, многое и поневоле пришел к заключению, которое заставило меня желать забыть имя пружанского аристократа, а потому и подробности происшествия, вызвавшего эту заметку, заносить не хочу.
18-го сентября, ст. Антополь.
«Chciałem począć od tego, że wyjechałem z Prużanów, ale kto z was, kochani czytelnicy, tak jest mocny w jeografii, żeby miał о Prużanach wiedzieć?».[24] Известный польский литератор Крашевский в одном из своих многочисленных сочинений («Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy»[25]) таким образом освободил себя от описания своего выезда из Пружан; но я, при всем моем уважении к этому писателю, должен, напротив, записать, как выезжают из Пружан, где четыре лошади только отвозят почту, а для проезжающих, как я уже заметил, нет почтовых лошадей.
Во-первых, привели нам подводу, запряженную парою крохотных лошадей, муцев. Мы не решились пуститься на этих крысах и потребовали третью лошадь. Снова пошла потеха, окончившаяся, однако, тем, что часа через полтора привели высокого, худого и скрюченного росинанта и запрягли его на левую пристяжку. Уложили наши вещи. Мой чемоданчик поставили под наше сиденье, а окованный железом сундук военного гомеопата – на передок, и на него воссел кучер, в котором сначала я не заметил никакой странности.
– На Запрудов! – сказали мы, усевшись.
Кучер тронул, и шагов тридцать проехали рысью.
– Пане Лукаш (Лука)! Пане Лукаш! – раздалось сзади нас, и послышался топот сапог и старческий сап.
– Ох, фу! – отдувался догонявший. – Пане Антоний!
Наш кучер издал какой-то полусвист-полузвук.
– От же ты этого коня бокового не тронь, бо он, – будь он неладен, – брыкается.
– Брыкается? – спросил мой сопутник. – Зачем же вы дали такую лошадь?
– Ничего, ничего, пане! – успокоил нас догнавший старик. – Ты, пане Лукаш, только не трогай его; нехай (пускай) по воле бежит.
Снова поехали; но, сделавши шагов двадцать, возница наш пробрюзжал «тпрюсь, тпрюсь» и что-то зашамшил зубами, суетясь на сундуке.
– Что ты говоришь? – спросил его мой товарищ. Извозчик опят зашамшил, но ничего невозможно разобрать было.
– Обернись сюда и скажи.
Опять шамшанье.
– Да что у тебя во рту?
Извозчик старался выговорить что-то, но из всех его слов мы разобрали, что «мова (речь) в мене такая поганая». – «Пане Антоний!» – закричал он внятнее, приподнявшись на сундуке.
Из темноты сзади послышался отклик.
– Что у тебя случилось? – спрашиваю я извозчики.
– Ничего, пане, ничего.
– Пане Лукаш! – раздается снова сзади.
– А!
– Это ты меня звал?
– А я же. Кто ж еще?
Подошел пан Антоний. Пан Лукаш что-то забормотал и задвигался во все стороны, а пан Антоний начал заглядывать под телегу.
– Да скажите же, Бога ради, что у вас такое?
– Ничего, пане, ничего. Фурманка трохи (немного) рассунулась.
Вот тебе и раз! Ночью ехать на рассыпавшейся телеге – приятно!
– Вороти назад.
– Ничего, пане, ничего. Будьте покойны. Нужно только вот этот сундук снять с передка.
Сняли сундук, поставили его под себя и поехали на авось.
– Пане Антоний! – опять закричал пан Лукаш. Пан Антоний подбежал снова.
– Зануздай ну пристяжных.
Пан Антоний повертелся у лошадиных голов, и мы, слава Богу, выехали за пределы г. Пружан.
– Проклятая эта фурманка, – сказал мой товарищ, – совсем сидеть нельзя.
– Да, сидеть скверно, – отвечал я, поглядывая на сундук, по железной крышке которого мы так и скользили из стороны в сторону. – И зачем вы возите вещи в сундуке? Где видано ездить с сундуками на телегах?
– Что ж, когда чемоданы моей езды не выдерживают.
– Купите хороший, так выдержит.
– Уж покупал; так и летят вдребезги.
– Закажите Вальтеру.
– Не выдержит никакой.
Сопутник мой, значит, взлез на своего конька. Не сомневаясь, что его нельзя разуверить в том, что ездить по-людски, с чемоданом, а не с гробом, окованным сверху железным листом, гораздо удобнее, я только слегка заметил, что если и действительно он находится в положении богатыря, который никак не мог найти меча по своей длани, то лучше же пусть рассыпаются чемоданы, чем кости людей, трясущихся на его сундуке.
– Ничего, на нем ямщики всегда сидят и не жалуются. Только в морозы, как настынет крыша, так недовольны.
– Я думаю, будешь недоволен, принимая дорогою холодную ванну.
– Не долго же каждому приходится.
– Примерзать-то?
– Ну, уж и примерзать! А, впрочем, на нем сидеть ловко.
– Ну, этого я, по теперешним моим ощущениям, не скажу. А как вот наш пан Лукаш взъедет на косогор, то и покатимся мы с вами долой с фурманки.
– Я уж один раз упал.
– Ну, вот видите! – заметил я.
– Да еще как! Был у одного из служащих у нас французов. Переночевал. Утром подают фурманку, француз с женою вышли на крыльцо, напутствуют меня парижскими любезностями, а я, «с ловкостью почти военного человека», прыгнул в фурманку. Сел и только что крикнул «пошел!», как вдруг чувствую, что фурманка из-под меня выскочила. Сознаю, что в какое-то короткое мгновение я видел свои собственные ноги торчащими вверх каблуками, что у меня болит затылок и что я лежу на дороге.
Приводя себе на память довольно почтенную фигуру моего товарища, его гомеопатические чувства, его коротенькие ножки и полные ручки, я не мог удержаться и расхохотался.
– А тут, – продолжал рассказчик, – и больно-то! И неприятно так упасть в глазах подчиненных! Экая, думаю, досада! Смотрю, француз с женой и все провожавшие меня люди стоят надо мной, высказывают сожаления, а сами, вижу, как не лопнут со смеха. Поднялся я и скорей уехал.
– Ну, вот видите, что делает ваш сундук!
– Да разве я с сундука упал?
– А с чего же?
– С куля. Куль рогожный набили соломой, чтоб было покойнее сидеть, да набили-то по усердию туго, как валик. Как только лошади дернули, куль покачнулся, я и полетел через задок фурманки.
– Пане! – прошамшил извозчик.
– Что тебе?
– Куда ехать-то: на Свадбичи или на Запрудов?
– На Запрудов, на Запрудов. Зачем нам ехать на Свадбичи?
– А так, пане; зачем же вам на Свадбичи?
– А ты дорогу-то хорошо ли знаешь?
– Ого! Я тут взрос. Я того и спрашиваю панов, что сейчас будет разъезд на Свадбичи и на Запрудов.
– На Запрудов, на Запрудов. А какая отличная станция Свадбичи! Можно спросить кушанья, все свежее, и сейчас изготовят, – сказал мой товарищ.
– А в Запрудове?
– Там ничего нет.
– Ну, и Бог с ним, лишь бы скорей доехать да пересидеть в тепле катар.
– Да вы принимайте аконит.
– Я принимаю.
Мне начало дрематься, и, несмотря на неловкое сиденье, я чувствовал, что глаза у меня слипаются. Спать, однако, оказалось невозможным, и я только довольствовался молчанием.
– Погоняй, – говорил мой сопутник.
– Не можно, пане!
– Отчего не можно?
– Поносят кони.
– Что ты плетешь?
– Ей же ей, поносят. Вот ей, конек только первый раз запряжен.
– Который?
– Что в оглоблях.
– Что ж это вы, с ума сошли, жеребенка запрягать в корень?
– Ничего, пане!
– Погоняй хоть большую-то.
– А чтоб она пропала! Доедем и так, пане!
– За что ж только пара везет?
– А то побьют, пане! – и извозчик хлынул бичом по правой лошаденке.
– На Запрудово ли ты едешь?
– О, на Запрудово.
Фурманка сильно покачнулась, и мы едва-едва удержались.
– Дорогу, сдается, чи не потеряли мы, – сказал своей мовой извозчик.
– Ах ты, Боже мой! Ну, ступай, ищи.
Извозчик походил с четверть часа и, вернувшись, зашамотил весело: «Нет, это та самая дорога». – «Пужку[26] сгубил», – пробормотал он, немного повременив, смотря на конец бичевого кнутовища.
– Что ты за чудак такой? – спросил его мой товарищ.
– Я старый.
– Как старый?
– А еще, как француз подходил, то было мне 25 годов.
– Чего ж тебя посадили?
– А кому ж ехать, пане?
– Кто помоложе.
– Нет в дворе молодших.
– Сыновей разве нет?
– Поумирали, один только остался, да молодой еще, тройкой не справит.
– Как молодой?
– Восемнадцать годков.
– Так тебе под шестьдесят лет было, как он родился?
– А было, пане!
– Молодец!
Старик захихикал и закашлялся. Впереди по дороге завиднелся огонек. Лошади бежали, но, поравнявшись с огнем, вдруг бросились в сторону и опять чуть не опрокинули фурманку.
– Ой! Бьют, ой, бьют, панове, – забормотал старик, прядя веревочными вожжами; лошади остановились, но топтались на месте и ни за что не хотели идти вперед. Нечего было делать! Я слез, взял коренного жеребенка за повод и провел его мимо огня.
– Да он у тебя не зануздан! – сказал я, видя, что уздечка взлезла лошади на верх головы и вожжи приходятся почти у самых ушей.
– А не зануздана.
– Зачем же так, если он еще в первый раз запряжен?
– Пристяжная зануздана, пане!
Что прикажете толковать! Я потянул вожжу и, сделав из нее петельку, заложил в рот жеребенку, вместо удила.
Поехали. Попутчик мой начал опять разговор с паном Лукашом, заставляя его по нескольку раз повторять одно и то же слово, пока можно было что-нибудь разобрать.
– Ты помнишь француза-то?
– Помню, – отвечал старик, – кобылу у меня загнал проклятый.
– Как же он загнал?
– Побрал нас тут с фурманками, наклал всякой всячины и погнал, а корма не было, кобыла моя и издохла. Отличная была лошадь, гнедая, здоровая, чтоб ему пропасть за нее. Однако 25 рублей дал.
– А лошадь разве больше стоила?
– По-тогдашнему не стоила, а по-теперешнему она дорого стоила бы.
– Да ведь он тебе платил по-тогдашнему, а не теперешнему?
– Это так. Войско ничего было, доброе войско было, – прибавил он, подумав.
– Не обижали вас?
– Нет, в дороге всем делились, ну, а как нечего есть, так уж все и не едим.
– А вы чего же не прятались, как подходили войска?
– Куда спрячешься-то? В лесу с голоду умрешь. Лучше уж было идти.
– А польские войска вас не тревожили, как была война?
– Нет, только рекрутов взяли.
– Тоже добрые были войска?
– Ничего. Рекрутов я тогда тоже возил, так насмотрелся на них. О, Боже мой, страсть была какая!
– В войсках-то?
– Нет, как рекрутов везли.
– Какая же тут страсть была?
– А кони вот тоже, как теперь, сборные, один туды, другой сюды лезет; справа[27] поганая, вся на матузках (обрывочках), а дорога тяжкая. Боже ж мой, что было только! Кони вертают все до дому, матузки раз в раз рвутся да рвутся, а рекруты утекают… Такое было, что и сто лет человек проживет, не увидит.
– Ну, а за польское панованье лучше было?
– Бог знает, как сказать. Гвалтовной работой они нас в Пружанах донимали, а то ничего.
– Заработки были?
– Были, да гроши были часом такие, что на вес их только сдавали, и французские тоже на вес.
– Ну, а теперешние карточки как у вас ходят?
– Жидовские-то?
– Да.
– Поганые это гроши.
– А гвалтом докуда вы работали?
– Аж до самой царицы Катерины.
– Ведь вы же мещане; за что ж вы работали?
– От поди ж, работали, да и только. А если, бывало, не пойдешь, то и – и, такого гармидора (шуму) нароблят!.. Все ходили гвалтом.[28]
Издали забелелась прямая полоса Брестлитовского шоссе. Лошади бежали ровною рысцою, левая пристяжная по-прежнему ничего не везла, и старик спокойно смотрел, как валек от опущенных постромок стукал лошадь по коленкам. Но только что коренной жеребенок ступил на шоссированную дорогу, опять метнул в сторону и затопотал, отхватывая от камня свои неподкованные ноги. Старик зашамотал губами и, соскочив с козел, повел жеребенка под уздцы.
– Садись же, – сказал ему мой попутчик, видя, что он ведет и ведет лошадь.
– Нет, я лучше буду его вести, пане!
– Что ты говоришь! Когда же мы так доедем?
– Тут недалеко, пане, до Запруд.
– Как недалеко?
– Верст с пять осталось.
Я пересел на передок, взял вожжи и крикнул старику: «садись». Он, кажется, очень обрадовался и, усевшись на моем месте, начал рассказывать, как трудно ездить на этих проклятых сборных конях. Кони, однако, бежали прекрасно, даже росинант натянул постромки и не протестовал против нескольких щелчков вожжею, из чего я и заключаю, что пан Антоний надул трусливого пана Лукаша, представив ему свою клячу опасным вольнодумцем.
Наконец завиднелась станция.
– Это и есть Запрудово?
– Запрудово, пане!
Когда я слезал с фурманки, извозчик отчаянно махнул руками и сказал: «О, Боже мой! Боже мой! Я поеду один на сих конях? Пропал я теперь с ними!»
И жаль старика, и смех неудержимый берет, глядя на его трусость. Станция очень хорошая и очень большая. Отставной солдат предложил нам кушать. Повар со всеми финесами рассказал, как он может нам сейчас изготовить пару цыплят (kurczat), а я повалился на диван и начал дремать. Сквозь сон слышу шум, в котором отличаю русские слова моего товарища, непонятную мову (речь) нашего извозчика и варшавское наречие станционного смотрителя. Наконец шум в соседней комнате затих, дверь отворилась и является мой товарищ.
– Прошу покорно радоваться! – говорит он, обращаясь ко мне с обиженным видом.
– Что такое? – спросил я, ничего не понимая.
– Знаете, где мы?
– В Запрудах.
– Нет-с, в Свадбичах.
Я расхохотался.
– Семнадцать верст назад отвез старый шут, – говорил мой товарищ, все более обижаясь.
– Давайте хоть посмотрим на него за это.
Велели позвать старика, чтобы дать ему на водку; но солдат возвратился, объявив, что пан Лукаш сложил наши вещи и ускакал.
Цыплят подали разогретых, ветчина гадкая с желтым жиром и сухая. Попутчик мой потребовал уксусу.
– Нету, пане, у нас.
– Как можно, чтобы при буфете не было оцта! – сказал он по-польски.
– А! Это оцта пан спрашивает. Оцет есть.
Дали уксуса.
– Нет ли чем почистить в зубах? – опять спросил мой чистоплотный попутчик.
– Есть, пане! – Повар побежал и возвратился с гусиным пером, на конце которого насохли чернила.
Я опять рассмеялся, а попутчик мой окончательно обиделся, и мы поехали в Запруды.
Из Запрудов до Антополя, заплатив двойные прогоны, мы поехали проселками. Приехав в Антополь, я ужасно проголодался.
– Есть что-нибудь съесть? – спросил я у писаря, вышедшего в чемарке с кутасами (кистями).
– Ничего нет.
– Отчего же вы не держите?
– Не держим.
Из-за двери выглянула еврейская физиономия и спряталась; потом опять выглянула, потом опять спряталась, и наконец через порог переступил тонкий, длинный еврей.
– Може паны что-нибудь скушали бы? – спросил он, подобострастно улыбаясь.
– А что ты дашь нам?
– Могу дать курицу жареную; могу дать рыбу вареную, могу дать яйца всмятку.
– Давай курицу, рыбу и яйца всмятку, – радостно воскликнул я, как Осип в доме Сквозника-Дмухановского, где были щи, каша и пироги. Поели прекрасно и за все заплатили 80 копеек.
– Отчего бы пану не держать кушанья? – заметил я писарю.
– Не стоит, – отвечал он, сделав косую мину и поправив широкий лакированный пояс.
– А вот евреи так не думают!
– Это уж их дело.
– Вы, кажется, не любите евреев?
– Кто их любит! Подлый народ.
– Эт! О них и говорить не стоит.
– А если б вот не евреи, так пришлось бы голодать, глядя на ваш пояс.
Пан писарь обиделся и ничего не ответил.
Вечером приехали в Яновку. Пред въездом в Яновку нас остановили несколько крестьян. Посмотрели в фурманку и отошли прочь к горящему костру, сказавши ямщику: «Поезжай с Богом».
– Чего они смотрели? – спросил я ямщика.
– Сена.
– Зачем же они смотрели сена? Что им за дело до сена?
– Быдло (рогатый скот) в Дрогичине падает, так чтобы хворобы (болести) оттуда не завезли с сеном.
А проезжая Дрогичино, я видел, как коровы тянули из лужаек грязную болотную воду, и только удивлялся, как такое пойло не произведет громадного падежа. В Яновке мы совсем осмеркли. В ожидании самовара я сидел на крыльце и, смотря на все меня окружающее, вспомнил сумерки в роскошных надднепровских хуторах; вспомнил теплый пейзаж, которым родная семья часто любовалась с крылечка панинской мазанки, глядя на Долгий лесок, на зеркальную поверхность пруда, на деревушку вверху Гостомли, скромной реки, не значащейся ни на одной географической карте. Тут пели, читали, вспоминали, пили «по чарци», «щоб усим легенько згадалось», а кругом зелень только синеет; желтый лист порою перекатится через дворик, но в воздухе еще тепло; из-за горки несется молодецкая песня, то давящая, то безумно веселая; из деревни слышится многоголосый собачий лай, и около колен вертится пятилетняя девочка с голубыми глазенками и умным личиком.
– Не уезжай, мой голубчик, не уезжай, мой милый, – говорит она, – я хочу, чтобы ты был со мною.
В Яновке нет ничего этого. Гладкая равнина, идущая от самого Белостока, очень приятна для соображений строителей Литовской железной дороги; но для глаза я не знаю ничего утомительнее и печальнее. Это не саратовская степь с густым колосом; не новороссийская степь с травою, в которой баран спрячется; это даже не жаркие Рынь-Пески, не киргизское раздолье, – а это холодная, белая неблагодарная почва, над которой человек без отдыха и покоя льет свой кровавый пот, нередко для того, чтобы собрать тощие колосья руками, как берут в России лен или замашни. Не то что дико и угрюмо, а как-то печально, безотрадно, холодно и серо. Бледные люди, женщины с изнеможенными лицами и присохшими грудями, мужчины с длинными космами редко расчесанных волос, колтуны, какая-то запуганность, задавленность в глазах и серое небо над серой землею. Скорей бы в Пинск на роздых, авось выздоровею и отведу на чем-нибудь глаза, не видавшие, с самых Кивачей, ни одного благообразного облика.
18-го сентября, Пинск.
Из новейших писателей о Пинске и о здешнем крае подробнее многих писал польский литератор Крашевский. Его сочинение «Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy» («Воспоминания о Полесье, Волыни и Литве»), изданное в Париже два года назад, без хронологической даты, известно всем, знакомым с литературою западных славян.[29] Оно не составляет чисто научного исследования, даже в нем очень немного сведений археологических, исторических и статистических, но оно очень верно знакомит с характером края и, по легкости своего изложения, не утомляет капризного внимания славянского племени, приученного литературою последних лет только ко всему такому легонькому. Впрочем, описания в роде «Wspomnień» Крашевского, по моему крайнему разумению, в данный момент исторического развития общества часто могут служить интересам края гораздо прямее, чем, например, многие изыскания, чтение которых превосходит меру обыкновенного человеческого терпения. Я о Пинске вообще думал не чаще большинства моих милых соотечественников, и значение этого города, и характер его населения мне были знакомы весьма поверхностно. Поэтому понятно, что прежде чем выйти из дома Фрейма Гринберга, в котором мои кости отдохнули на довольно чистой постели, я развернул «Wspomnienia» Крашевского. Вступление мое в пределы, подведомственные пинскому городничему, несколько разнствует со вступлением в эти же пределы г. Крашевского. Он въезжал в Пинск со шляхтичем, и зато его у городского столба остановил еврей с железным щупом, ткал им в повозку и попортил чемоданы, отыскивая водки, которую, по замечанию г. Крашевского, сюда можно ввезти только в желудке; а я въехал с почтовым ямщиком, и за то меня не обыскал еврей. Но, как я все-таки видел сквозь мрак ночной фигуру еврея со щупом, то и не сомневаюсь, что сын израилев носит этот инструмент не для чего иного, как для употребления, описанного на 92 странице 2-го издания «Wspomnień» Крашевского.
Теперь Пинск уездный город Минской губернии, в которой полагается местонахождение известной сморгонской академии медвежьих наук. Мирное население нынешнего Пинска состоит из христиан и евреев. Христиане исповедуют римско-католическую веру, но есть и православные, а говорят все, без исключения, на польском языке. Евреи разделяются на обыкновенных, т. е. талмудистов, или, как они себя называют, «старозаконных», и хасидов, они же китаевцы и скакуны. Г. Крашевский называет этот раскол сектою хасидов, китаевцев или каролинцев, производя последнее из трех названий от Каролина, бывшего предместья Пинска, теперь совершенно с ним соединенного и составляющего часть его полицейского разделения. В настоящее время, как я сегодня узнал, схизматствующие сыны Израиля утратили название каролинцев и зовутся обыкновенно китаевцами или еще чаще скакунами. Откуда произошло название китаевцев, мне никто не объяснил, а их раввин, к которому я хотел обратиться, выехал из Пинска и живет теперь в м. Столине, что на р. Горыне. Скакунами же они прозваны за обычай прыгать, «скакать», во время совершения общественной молитвы, и в целом крае у простолюдинов они известны, собственно, только под этим названием. Каролин и Пинск теперь благоденствуют под опекою общего покровителя г. городничего и только делятся на две партии по отношению к двум частным приставам. Имея в виду, что уездный город Пинск не только имеет городничего, без которого не бывает города, но даже частных приставов, да еще не одного, а двух, я уж не хочу говорить, что Пинск нимало не напоминает ни Кром, ни Малоархангельска, ни Борзны, ни Черни, ни (спаси Господи!) Городищ, устроенных собственно для выдачи пензенским винокурам свидетельств на не существующую на самом деле запасную медь, ради получения под нее денег. Но не похож Пинск ни на Елец, ни на Рыбинск, ни на Серпухов, ни на Бердичев, где непривычный человек, подвергшись еврейской услужливости, в полдня делается готовым субъектом для любого дома умалишенных. Он именно «сам по себе». Не спеша утверждать, как велико право Пинска именоваться литовским Ливерпулем, как иные его называют, можно сказать, что он несомненно один из важнейших пунктов литовского края. Значение его велико в настоящее время и способно быстро возвыситься, если для Пинска сделается что-нибудь вдобавок к тому, что он делает сам, стоя на немноговодной реке и не соединяясь искусственными путями ни с одним из голодных мест Литвы, требующих хлеба, соли и мяса. Мне кажется, что Пинск скорее литовская Москва, чем Ливерпуль. Его географическое положение, по отношению к путям сообщения, имеет некоторую солидарность с Москвою, и фабричная его производительность и промышленность его окрестностей не напоминают Ливерпуля. До Пинска снизу водные сообщения весьма удовлетворительны; подвоз сюда хлеба из плодородных местностей днепровского бассейна очень удобен, и потому здесь существуют такие цены на хлеб, что, при всей дороговизне доставки его в Гродно, он шел туда в голодные годы. Соль же, шерсть и прочие украинские продукты и теперь постоянно везутся отсюда по направлению к Белостоку и за Белосток по Гродненской губернии. Водяные пути за Пинск уже гораздо затруднительнее. Их два: один идет в Балтийское море, к Данцигу, а другой, тоже в Балтийское море, через Вислу. Для перевозки хлеба каналами Огинским и Королевским его в Пинске перегружают с днепровских берлинок на мелкоходные суда и плоты. Идучи на плотах, хлеб мокнет, прорастает и портится. Приходя в заграничные порты в кулях, покрытых «зелеными изумрудами русских полей», он подвергается невыгодному бракованию, ибо иностранцы, не читая некоторых статей г. Асакова, не понимают, что наши «зеленые изумруды полей» надежнее чисто отвеянного зерна. А как трудно допустить, чтобы европейцы, которым мы продаем свой хлеб, вошли во вкус г. Асакова, то нужно, чтобы хлеб наш приходил не в том виде, в каком он приходит к ним на плотах, отправляющихся из Пинска в Данциг, где самый строевой лес, связанный в плоты, составляет предмет торговли пинских купцов. Но, сверх забот о заграничной торговле через Неман и Вислу, должно же подумать и о внутренней торговле, о распределении богатств плодородных местностей нашей земли по всему лицу государства. Видеть местности, изобилующие хлебом, в положении выгодном для сбыта, а местности, требующие привозного хлеба, – в положении выгодном для приобретения его, в свое время, сходною ценою, – задача более важная, чем усиление заграничного торга. Нужно оживить голодные деревни и города Гродненской, Ковенской и Виленской губерний, облегчив им покупку нужного количества украинского и волынского хлеба в годы урожайные, а наипаче в неурожайные, когда самое правительственное вмешательство было бессильно вывести из апатии население этих стран, несмотря на то что оно не останавливалось перед громадными издержками на перевозку хлеба из Пинска к Гродну. Только путем довольства, вводимого в северную часть литовских губерний, население этих стран выйдет из той страшной вялости, печать которой оно носит на себе теперь от изнурительной и бесплодной борьбы с своею скупою почвою, а этого нельзя достигнуть без хороших искусственных путей сообщения. Железная дорога из Пинска в Белосток есть именно такой путь. Соединясь в Белостоке с линиею Варшавской железной дороги, она развезет по голодной Литве все, что теперь с трудом сбывается в Данциг и другие иностранные порты. Довольство разовьет предприимчивость, и апатичный край, почувствовав сытый желудок, зашевелит своими мозгами и охотнее положит свои намозоленные руки на плуг и топор, получа эти орудия не из рук, отковавших их по лекалу, существующему со времен Миндога или Витовта. Дайте ему связаться железными полосами с днепровским бассейном, и правительство уже никогда не найдет себя вынужденным обращаться к тем затруднительным мерам, перед которыми оно не останавливалось в особенно голодные годы, возя на лошадях хлеб из Пинска для голодавших жителей Гродненской губернии. Рельсы, положенные от Пинска к Белостоку, будут иметь огромное значение и для верхнелитовского края, и для украинской отпускной торговли, и для Варшавской железной дороги, проходящей по самой бесплодной полосе империи и потому не получающей тяжелой клади, и, наконец, для высших соображений правительства, которое с нею успокоится от опасений голода, каждогодно почти угрожающего всему литовскому краю к северозападу от Пинска.







