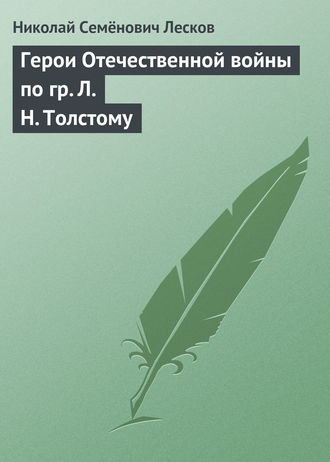
Николай Лесков
Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому
Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но на столько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.
Бенигсен открыл совет вопросом: «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое серьезное молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось; он точно собрался плакать, но это продолжалось недолго.
– Священную, древнюю столицу России! – вдруг заговорил Кутузов, повторяя сердитым голосом слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смыслу для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смыслу. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасение России в армии. Выгодно ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение. (Он откачнулся назад на спинку кресла.)
Начинаются длинные прения, наблюдая которые, ребенку Малаше еще яснее чудится, «что дело все только в личной борьбе между дедушкою и «длиннополым», как она называла Бенигсена.
Прения эти бог знает чем бы окончились, если бы Кутузов не закончил:
«Итак, господа, видно мне платить за перебитые горшки». И, медленно поднявшись, он подошел к столу и добавил: «Властию, врученною мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление».
Таким представляет гр. Лев Николаевич этого «старого человека», против которого кипели интриги и шипело злобою все его окружавшее, но который избран к спасению отечества непостижимым образом сложившеюся и высказавшеюся волею народа, как бы отождествлял в себе дух целого народа, и в эти великие минуты, и спя и бодрствуя, он чувствовал себя ковчегом, в который сложен для чуда засохший жезл народа. Он «был убежден, что в нем суждено расцвесть этому жезлу, он в это верил, и в этой вере он черпал свою силу выжидания и не смущался кишащею вокруг его пустою суетою, которая способна была бы сбить с рельсов и обессилить всякою, менее его крепкого владычным духом».
III. Граф Растопчин
Совершенно не то, что мы видели в представленном нам графом Толстым изображении светлейшего Кутузова, являет нам другое историческое лицо того же времени – главнокомандующий Москвы, граф Растопчин. Как тот представляет нам собою образец спокойной, самообладающей силы, то дремлющей, то возносящейся в моменты действования до истинного величия, так этот может служить образцом бравурной суетливости, возбуждающей в минуты благоприятные для жизни этого героя смех, а в моменты критические – горькое сожаление о нем и о всех деятелях подобного ему характера. Фразистый патриотизм, какая-то кипяченая верченность, русская балаганность пополам с французским гаменством главнокомандующего Москвы устрояют во вверенной ему столице такой порядок, какой себе даже трудно представить. Оставление Москвы представляет ужасающую картину неописуемых беспорядков. Благоразумно и с толком столицу оставили только те из ее жителей, которые не слушались главнокомандующего и убирались кто куда мог, за добра ума. Те же, которые имели неосторожность послушать шаловливых уветов Растопчина, испили во славу его вполне горькую чашу. Побег московских обывателей из столицы в последние дни, до которых додержал их Растопчин, хвалясь, что побьет Наполеона, выйдя на него с московскими барышнями, был ужасен. Такого беспорядка и таких несчастий нельзя было бы ожидать и сотой доли, если бы действия Растопчина были хоть на волос серьезнее и обдуманнее, или, может быть, еще лучше, если бы Москвою вовсе никто не командовал. Мы выше сказали, почему светлейший князь Кутузов не мог устроить дела иначе, как они стали. Москва не могла быть защищена армиею, и Кутузов должен был вести войска к отступлению, хоть он, по всей вероятности, в это время не имел никакого дальнейшего плана действий, и сам не знал, к чему поведут его эти отступления. Он видел только, что отступление армии за Москву необходимо, что держаться нельзя, что вместо того, чтобы терять Москву и армию, гораздо благоразумнее решиться потерять одну Москву, без армии. Растопчину теперь, в силу этого решения фельдмаршала, предстояло регулировать очищение жителями столицы. Это нельзя считать очень великим: это, пожалуй, сделал бы всякий хороший обер-полицеймейстер. Вся задача Растопчина (единственная, исполняя которую он мог бы посуетиться с пользою) заключалась в том, чтобы обсудить с остающимися в городе представителями населения положение столицы и с общего совета предпринять самые несложные меры, чтобы жители, желающие оставить беззащитную Москву, выезжали и выходили из города, соблюдая возможный порядок. Растопчину не удалось сделать путем и этого. Он прежде всего ни с кем не совещается, а шумит и ершится со своим вздутым патриотическим задором. Для него не существуют невозможности, обусловливающие необходимость отступления, как для Кутузова. Его поражает срамность необходимой меры, совершаемой на основании математически верного вычисления, что выгоднее – потерять Москву и армию или одну Москву без армии? Ему до всего этого дела нет, он видит в этом только срам и пропажу эффекта, какой бы он мог произвести с шаром Леппиха, образом Иверской и сражающимися против французов московскими барышнями. Растопчин кричит, что Москва не будет ни за что сдана, и рассылает в этом духе афиши, писанные мужичьим языком, который его сиятельство, как и многие наши люди высокого положения, имеют слабость считать языком народным и потому особенно внятным и внушительным. Московские жители еще в июне и июле месяце предвидели или предчувствовали, что Москве не удержаться, и в начале августа начали уже выезжать из столицы. Это, конечно, было прекрасно и для тех, кто спасался, и для тех, которые оставались в городе; жизненные продукты дешевели бы, не было бы лишней суеты: каждый, имея свободу ехать или оставаться, зрелее бы обсуждал бы свое положение. Но Растопчин видел в этом вред.
«Стыдно бежать от опасности, только трусы бегут из Москвы», – говорил он по этому поводу в своих афишах, которые, как беспощадно выражается автор «Войны и мира», обыкновенно были писаны «ерническим языком». Но, по несчастию, авторитет высокого положения графа Растопчина, несмотря на всю нелепость его «писанных ерническим языком афиш», все-таки был столь влиятелен, что главнокомандующему Москвы удалось кое-кого застыдить своими афишами. Название «труса» было неприятно, и потому многие, чтобы не получить этой клички, стали удирать из Москвы крадком, потихоньку. Упрекать в этом московских обывателей было смешно, а их упрекал сам главнокомандующий. Они не рассуждали о том, хорошо или худо им будет, если французы начнут управлять ими; им просто под управлением французов нельзя было быть, это им было хуже всего, и они уезжали, кто куда мог, со своими семействами. Правда, что Растопчин хвалился им даже намерением поднять Иверскую и указывал им на построенный Леппихом воздушный шар, с помощью которого Растопчин обещал погубить французов, указывал он и на другой вздор, о котором подробно писал народу в своих афишах; но москвичи знали, что войско должно драться, и если оно не может драться, то Растопчин с московскими барышнями и дворовыми людьми хоть если и выйдет на Три Горки воевать против Наполеона, то вряд ли Наполеона одолеет, и поэтому здравый смысл говорил москвичам, что балагурств поставленного над ними командира слушать нечего и надо уезжать; они и уезжали.
С этих пор Растопчина совсем покидает всякая логика. У него нет никакого курса: он не знает, куда идет, так же, как Кутузов; но он проходит путь неведения своего не тихо и скромно, по-кутузовски, с головою, опущенною на грудь, а он то мечется, то мнется, то прядает в лансадах. Вот как изображает его гр. Толстой.
Гр. Растопчин то стыдил тех, которые уезжали; то вывозил присутственные места; то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду; то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве; то на 136 подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар; то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отказывался от нее; то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить их к нему, то упрекал за это народ; то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в Москве г-жу Обер-Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения,{1} а без особой вины приказал схватить и увести в ссылку старого почтенного почт-директора Ключарева; то собирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами; то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы; то писал в альбомы по-французски стихи об участии в деле. Этот человек, – говорит гр. Толстой, – не понимал значения совершающегося события и хотел что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своею маленькою рукою то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собою, народного потока.
Гр. Толстой описывает, как Растопчин, во исполнение служебного принципа многих: «ничего не делай, да суетись», накидывается на ничтожного купчика Верещагина, трактирщика, который читал какую-то наполеоновскую прокламацию. Граф связывает это дело с самовластно исковерканною судьбою почт-директора Ключарева, которого почему-то ненавидел Растопчин. Ради того, чтобы раздуть само по себе ничтожное дело, главнокомандующий Москвы напускает на все это необычайную важность, заключает и Ключарева и Верещагина под стражу. Верещагин здесь и дождался вступления неприятеля в Москву, причем герой московской суеты, граф Растопчин, потешил свое русское сердце, затравив pour la bonne bouche[1] узника Верещагина смятенным народом, а потом закончив свою московскую службу собственноручною расправою с народом и плаксивою жалобою на Кутузова.
Со всем этим мы познакомимся через несколько строк, в описаниях последнего дня командирства Растопчина Москвою, дня, ознаменованного всеми безобразиями малодушной бесхарактерности, ребячьего каприза и бессердечия, а теперь пока на очереди Наполеон.
IV. Наполеон
Неприятель вступает в Москву. Вступление это опять описано у гр. Толстого необыкновенно картинно. 2 сентября в десять часов утра погода под Москвою стояла волшебная. Арьергарды русской армии выходили из Москвы через Драгомиловскую заставу, а с другой стороны в столицу вдвигались передовые войска Наполеона. По живописному выражению автора, пустая Москва, как сухая губка, «всасывала» в себя неприятельские ряды.
Москва с Поклонной горы расстилалась просторно со своею рекою, со своими садами и церквами и, казалось, жила своею жизнию, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.
Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города, и Наполеон чувствовал его.
Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва святая. «Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!» – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика. «Город, занятый неприятелем, подобен девке, потерявшей невинность» – думал он. И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним восточную красавицу. Ему странно самому, что, наконец, совершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание.
Гр. Толстой очень смело и с большою последовательностью рисует душевные движения, которыми был полон Наполеон, глядя на лежащую у ног его русскую столицу.
Одно мое слово, одно движение моей руки, – думает Наполеон у Толстого, – и погибла эта древняя столица des Czars[2]. Но мое милосердие всегда готово снизойти к побежденным. Я должен быть великодушен и истинно велик. Я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром). С высот Кремля я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовию поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны, что я вел войну только с ложною политикою их двора, что я люблю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов.
– Пусть приведут ко мне бояр, – обратился он к свите.
Генерал с блестящею свитою тотчас же поскакал за боярами.
Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.
Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни собраний во дворце царей, где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора такого, который сумел бы привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere[3], он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: «Etablissement dedie a ma chere Mere»[4]. Нет, просто: «Maison de ma Mere»[5], – решил он сам с собою. Но что же так долго не является депутация?
Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами посланные за депутациею вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованы. Не то, что Москва была оставлена жителями, пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть в Москве толпы пьяных, но никого больше.
Наполеон съезжает с Поклонной горы молча. Москва дала ему неприятный урок: рога его победительной гордыни надломлены, и надломлены не теми, кто делал вопрос из сдачи Москвы, а которые ушли из Москвы ради сохранения собственной жизни.
Первое поражение Наполеону нанесено москвичами, хотя они, уходя из Москвы, всего менее думали поразить этим гордого победителя, и первою ошибкою, в которую вовлекли его, открыт длинный ряд его последующих ошибок, закончивших его погибель.
Неумышленным ударом, который нанесли москвичи Наполеону, уйдя из столицы, у него как бы был отнят разум, и отселе начинаются самые гибельные и самые необъяснимые его промахи. Герой сражен был теми, кто и не помышлял вступать с ним в личное состязание.







