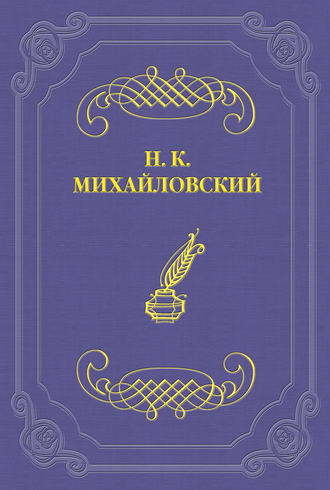
Николай Михайловский
Памяти Тургенева
Проживая за границей, Тургенев оставался, однако, русским, интересовался всем, что делается на родине, и не раз откликался на наши злобы дня. Немудрено, что, наблюдая русскую жизнь издалека, он впадал в ошибки, об которых было бы, разумеется, неуместно распространяться теперь, когда мы отмечаем десятилетие кончины этой гордости русской литературы. Каковы бы ни были эти ошибки в публицистическом смысле, сочинения Тургенева остаются неиссякаемым источником художественного наслаждения и собранием тончайших наблюдений и исследований в области движений человеческой души. Тургеневу навязывали роль ловца новых моментов в истории нашего развития, точнее, – разных «новых людей». На этой именно почве и происходили, например, известные горячие споры о Базарове{3}.Может быть, в глубине души и самому Тургеневу хотелось занять роль такого ловца моментов. Но на деле он, во всяком случае, брал из этих сменяющихся моментов только среду, обстановку, а главными действующими лицами оказываются везде представители все тех же вышеупомянутых двух психологических типов. Во всех своих романах и повестях Тургенев решает художественную задачу: как будут себя вести и что будут чувствовать его два типа в данной обстановке? Причем обстановка иногда берется из «момента», а иногда дело обходится и без него. Например, Нежданов (в «Нови») и Санин (в «Вешних водах») – один и тот же психологический тип из любимцев Тургенева со всею их безвольностью, слабостью, колебаниями, но и с тем поэтическим венком красивого страдания, который Тургенев неизменно кладет на головы своих любимцев; только в первом случае обстановка взята из «момента», а во втором нет намека на какой бы то ни было определенный момент. Каковы бы поэтому ни были ошибки автора в понимании и изображении обстановки, ими не наносится ущерба собственно психологии безвольных, слабых, колеблющихся героев. То же нужно сказать и о психологии противоположного типа в тех пределах, которые устанавливаются беспристрастием автора и его чувством художественной меры. Можно утверждать, что решительные люди, люди борьбы и твердого преследования раз поставленной цели, не необходимо так сухи, жестки, так обделены в поэтическом смысле, как все подобные герои Тургенева. Например, патриотический энтузиазм Инсарова мог бы быть цветнее, ярче: Инсаров мог бы обладать увлекательным красноречием оратора или поэтическим талантом, который он посвятил бы тому же делу служения родине. Но Тургенев не любил раздавать эти поэтические цветы людям борьбы и действия, – он приберегал их для своих любимцев, людей слабой воли, сомнений и колебаний. Если, однако, мы возьмем Инсарова как он есть – любящим Болгарию и ненавидящим турецкое иго, но сдержанным, умным, но узким и недаровитым, – то каждый его шаг окажется психически верен. И поистине удивительно то разнообразие, с которым Тургенев умел индивидуализировать свои два типа, всякий раз открывая в них новые стороны, новые подробности, новые комбинации мыслей, чувств, темпераментов. Это как бы две галереи фамильных портретов: фамильное сходство есть во всех портретах каждой из галерей, но вместе с тем каждый из них имеет особую физиономию; до такой степени особую, что различие аксессуаров – высокий пудреный парик и гладкая прическа, блуза художника, вицмундир чиновника, модный фрак и проч. – является делом второстепенным. Но к этому надо еще прибавить богатую галерею женских портретов, частию распределяющихся по тем же двум типам, а частию составляющих особый мир, в изображение которого Тургенев вкладывал всю гибкость, все изящество и тонкость своего таланта. Это – мир впервые полюбивших девушек. В этом отношении с Тургеневым не может соперничать не только Достоевский, которому женские образы решительно не давались, но и гр. Л. Толстой. Особенность Тургенева состоит, во-первых, в том, что его полюбившие девушки оказываются в большинстве случаев выше мужчин, а во-вторых, в том, что утренняя заря любви сопровождается в них порывом к чему-то неопределенному, но высокому и широкому; они чувствуют в себе подъем сил, не только дающий им самим великое счастие, но и способный осчастливить и любимого человека, и еще много, много людей… Несмотря на постоянное повторение этого основного мотива, Тургенев и здесь был неистощим в вариациях. Но как только этот порыв так или иначе кончался в девушке – разочарованием ли, как в «Затишье» и в «Рудине», смертью ли любимого человека, как в «Накануне», обыкновенной ли прозой семейной жизни, – она переставала интересовать Тургенева: он ставил точку. Дело в том, что этот порыв был сродни его западничеству, тому первоначальному, настоящему западничеству, в основе которого был светлый, широкий, но неопределенный идеал и которому Тургенев оставался верен всю жизнь…







