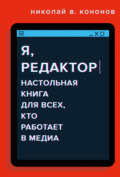Николай Кононов
Восстание. Документальный роман
Однажды по дороге от Парижа к трамваю я заметил, что у клуба циркулируют массы. Под вывеской «Театр» кто-то дописал еще одно слово – «народа». Слева от дверей на доске висел плакат «Суд над студентом», который изображал человека неопределенных лет, бросающего исподлобья взор на балагурящих однокурсников. С утра я уже несколько раз слышал на разных этажах разговоры о суде. Агитотдел иногда судил врагов, и врагом назначали кого-то определенного: бракодела, кулаков, подстроивших железнодорожное крушение, акушерку за аборт, приведший к смерти, и даже свинью, съевшую тесто в квашне, – хозяин той оказался единоличником и лодырем, навредившим соседу. Я вспомнил, как читал в брасовской библиотеке, что в Средневековье инквизиторы казнили на площадях не только ведьм, но и волков, лис, даже муравьев, которые утащили муку. Но сегодня Париж был особенно взволнован, потому что судили туманного студента непонятно за что. Агитотдел загадал загадку, чтобы зрители пришли со всех корпусов. Я кончил дела до обеда и вернулся в городок заранее.
Агитаторы расставили столы полукругом – в середине сидел судья, слева прокурор и свидетели, справа адвокат, – а рядом выдвинули вперед стул обвиняемого, которого, видимо, хотели судить заочно. В пять минут зал наполнился. Я сел в последнем ряду у выхода. Люстра под потолком горела как самовар, театр был громаден и гулок. Рядом со мной сел незнакомый парень в измятом пиджаке и нарисовавшая помадой на губах бантик фабричная. Неожиданно все началось. Из-за кулисы как бы в задумчивости вышел начальник агитотдела, игравший на судах главные роли. Пройдясь туда и сюда, теребя подбородок и вороша усы, он сел за стол судьи прямо в гимнастерке – мантия в этот раз отсутствовала – и заговорил как бы сам с собой: «Вот мы всё твердим „эксплуататоры", „эксплуататоры", когда говорим о старых врагах коммунизма, и, конечно, думаем – о ком это сказано? О купцах, генералах, кулацком элементе и так далее. Мы думаем, что их уже нет, что выметена эта братия красной метлой. Но давайте подумаем: как быть с теми, кто сам не смог стать воротилой, но помогал другим воротилам угнетать? Приказчики, управляющие, инженеры, продававшие свой труд задорого капиталисту, начальники цехов, пекарен, винных заводов, да каких угодно предприятий – сколько таких было до великой революции? Миллионы. Советская власть взяла в кулак и удушила одних, а других отправила работать на благо страны. Но тем временем, пока мы оставили в покое их семьи, дети врагов, не имея права идти как рабочая молодежь в институты, стали учиться после школы – на тех же инженеров, зоотехников, землемеров, юристов. Особенно, конечно, на бухгалтеров – чтобы быть поближе к деньгам. Они считают себя умнее, родовитее! Таков и наш обвиняемый».
Агитатор обвел рукой пустые стулья и ткнул пальцем в тот, что был предназначен студенту. Лишь в этот момент занавес дернулся и уполз. Адвокат, прокурор и свидетели заняли свои места. «Прислали новую методичку, – прошептал сосед фабричной. – Рубить как в жизни. Не устраивать действо». Артист продолжал: «Не будем, однако, торопиться с выводами. Эти студенты выучились, и многие приносят пользу народному хозяйству, находясь под контролем партийцев и органов безопасности. Они незаметны, их можно вычислить только по тому, как ненавязчиво и всегда обоснованно они уклоняются от общественной работы, от инициативы, от высказывания мнений о текущем моменте. Вот почему сегодня нет подсудимого здесь. Он спрятался. Он пустое место. Он, может быть, в этом зале. Опасно ли пустое место?.. Предоставим слово обвинителю».
Вышел прокурор, кудрявый и с косым ртом, навис над столом и начал излагать. «Дело, товарищи, на взгляд обвинения, проще пареной репы. Международная обстановка диктует нам, что…» Далее он двадцать минут разъяснял то же, чем в последнее время нам надоедали на политинформации в Мелиоводстрое, где отродясь никаких лекций не читали, кроме как о вреде пьянства. Война с вероломными финнами, немцы точат зубы, Гитлер задушил коммунистическое движение, и мы слишком снисходительно наблюдали, как он наращивал мощь, а потом напал на соседей. Мы одни в кольце врагов и безумцев, которые чуют, что коммунисты сильны, и потому хотят вызнать, какие есть резервы для предательства внутри советского общества. Наши испанские товарищи проиграли генералу Франко, так как в Мадриде, осажденном четырьмя его колоннами военных авантюристов, ждала еще пятая колонна – многочисленные иуды из числа жителей. «Сейчас, когда родина окружена и грядет война, остается заключить, что студент Имяреков по меркам тревожного времени есть выгодный врагам изменник, – бормотал прокурор. – Таких студентов, тайно презирающих рабочий класс, товарищи, сотни тысяч. Иногда они заняты на действительно важном производстве, поэтому необходимо выявить среди них по-настоящему колеблющийся антисоветский элемент: кого-то сконцентрировать за Уралом, а за кем-то усилить контроль. Считаю целесообразным отправить студента Имярекова на пять лет в трудовой лагерь».
Он сел, вытирая косой рот, и судья вызвал адвоката. Тот прокартавил, что не время разбрасываться кадрами в ситуации, когда индустриализация набрала ход. Сомнительные кадры можно прижать к ногтю, но как бы не раздавить по дороге только-только сложившихся специалистов, как бы не прервать сложившиеся инженерные преемничества. Тут мой неотглаженный сосед расправился и крикнул: «Хорош!» Все обернулись. «Хорош! – повторил он. – Прямо сейчас – к ногтю! А если правда война?! Предатель побежит к врагу. Нельзя упускать! Давить прямо сейчас как гниду!» В другом конце зала начался недовольный разговор. Его инициатор прибавил в громкости и осадил кликушу в том смысле, что в его отделе работают трое сыновей бывших и они скромные труженики и не высовываются не из-за того, что скрывают, а потому что стыдно им, товарищи, внутри себя стыдно; уж не знаю, как вы, а за своих поручусь. Некоторые лица размягчели, заволновались, и многие закричали: «И я знаю!
И я знаю! И у нас такие есть!» Я заметил, что сосед в белье перестал кривляться и, вытягивая шею, внимательно смотрит, кто и где кричит. На прошлых судах зрители просто голосовали, а теперь агитаторы спровоцировали диспут.
Голоса в моей голове смешались в единый вой, я вцепился в подлокотники кресла и понял, что не могу вдохнуть воздуха. Ужас пронзил тело холодной иглой и заставил скрючиться, тщась найти положение, в котором мышцы, отвечающие за дыхание, оживут. Люстра завертелась как горящий пропеллер. Зал тем временем притих, судья встал и стал произносить что-то грозное, отчего заступавшиеся за своих подчиненных спохватывались и начинали неумолчно болтать и каяться. Борясь с подступающей тошнотой, я каким-то краешком сознания догадывался, что они открещивались от тех, кого защищали, потому что судья обвинил их в пособничестве. Сидящие превратились в десятки машинок, которые стучали, звенели и отчаянно калькулировали, кого из подопечных выгоднее сдать, чтобы самим не попасть на карандаш. В апогее своего беснования они под зоркими взглядами особистов клялись, что вычистят гнойник. Когда это кончилось, зрители, очистившиеся от скверны, повалили к выходу, и я присоединился к ним, слившись с толпой и опустив плечи.
Направления в Углич я прождал год. Правда, вызвали не на электростанцию, а на водохранилище при ней. Вместе с десятками других геодезистов мы снимали рельеф берега Волги у Калягина. Этот сонный город хотели затопить почти целиком. Кроме него под воду отправляли еще несколько городков и сонм деревень – все селения, что лежали в пойме Волги. Мы высадились, не доезжая Калягина, и пошли к городу теодолитным ходом через деревни. Колея вела мимо черных домов, к чьим треснувшим окнами прислонились осколки старой жизни: то кукла без лица, то подсвечник. Дома пустовали, но были аккуратны, словно хозяева уезжали ненадолго. В городе остались тоже только деревянные дома, а все прочие были разобраны. Белокаменный монастырь взорвали. «Тут изразцы рисовали со львами, кошками и всякими животными и кружевницы по избам сидели, – просвещал местный инженер, ехавший с нами. – Давно дело было, меня еще не было. Пропало все, ушло куда-то. Вот и сами деревни теперь под воду уйдут, и хорошо, пусть власти рабочих послужат, так?» Под его болтовню мы пересекли слободу, протряслись по торговой площади и наконец заглушили мотор у колокольни. Она напоминала ракету из книги о космических поездах, которую я читал в Брасове, если бы такую ракету собирали в Риме: вторую из четырех ее ступеней венчал портик, а каждую ступень поддерживали шестнадцать колонн. Вокруг уже отсыпали вал. Колокольне предстояло торчать из-под воды бакеном на крутом повороте реки.
С ее верхотуры открывался вид на город. Люди ушли, утром начиналось затопление. Инженер курил, стоял безветренный вечер, снизу плыли дымка и тишина, и разве что урчали грузовики, эвакуировавшие последние бригады. Закат спускался к реке, и дома стояли молча, погружаясь в долгий сон. С нашей площадки виднелся кусочек внутренней стены колокольни, и там светлел кусок свода, где старый знакомый, черный пес, влачил в ад колесницу. А вскоре мы сидели на берегу и наблюдали, как вода из открытой плотины уносит остатки утвари, изгороди, пугала. Перерыв кончился, и, вздыхая, бригада поволокла теодолиты вниз по берегу. Бывшая жизнь уходила атлантидой под темную бурлящую воду, мир надломился, на моей земле случилось что-то непоправимое, и было ясно, что это вряд ли можно будет залечить временем. Пока мы несли инструменты, начался ливень и все скрылось. Лишь колокольня маячила сквозь пелену рыбьей костью.
Люди работали на совесть. За день мы проходили двойную норму, и вскоре нас заметил главный землемер и перевел на электростанцию. Однажды мы с ним остались в конторе за полночь, проверяя съемку калькуляцией. Я знал, что моя бригада на хорошем счету, и спросил, можно ли справиться о наличии в списках рабочих на сооружении электростанции такого-то человека, кстати, опытного топографа. Землемер сообразил, к чему мой вопрос, и сказал, что можно, так как он должен знать, кто из занятых на стройке рабочих ценен, чтобы такие кадры выполняли квалифицированную работу. Я назвал отца и, чуть вздрогнув от выговариваемой лжи, заверил, что он мастер хоть куда, но по недоразумению ему на время пришлось заняться другой работой. Землемер долго не вспоминал о моей просьбе, и только когда мы затаскивали ящики с оборудованием в грузовик, чтобы ехать в Калинин, он подозвал меня и проговорил: «Здесь вашего отца нет». Увидев гримасу на моем лице, он добавил: «На вашем месте я не был бы уверен, что он вообще куда-либо прибыл».
Я, конечно, думал об этом, а также о том, что отец бледнеет в моей памяти, как на пересвечиваемом негативе. Вернее, я не хотел об этом думать, и гнал такие мысли прочь, и действовал так, будто ничего подобного случиться не могло, – но изгнать их не смог. Что мне оставалось? Разве только дождаться большого отпуска, явиться домой и попробовать вызнать хоть что-нибудь новое через Игнатенкова.
Но я не успел. Поезда уже не ходили. Я позвонил из конторы – сразу после того, как всех собрали и объявили на случай, если кто не слышал радио, что всё, началась война. На вокзале тоже долго не отвечали, а потом наконец-то взяли трубку и сказали, что изменений в расписании на Смоленск не предвидится. Я немного успокоился. Тем более в первые дни репродуктор бубнил что-то тревожное, но бравое и почти не упоминал захваченные врагом города. Я отправил домой письмо, что приезжаю, как и обещал, в середине июля. Однако, когда спохватился и позвонил еще раз, спустя десять дней, направление уже закрыли. Жестяной раструб прогремел, что идет битва за Смоленск, и я вдруг понял, что надо было бежать раньше во что бы то ни стало, а сейчас – уже опоздал. Тем не менее, собрав чемодан, я бросился вон из Парижа к «двушке», мимо остроконечных башен, гипсовых девочек с книгой и казарм с растерянными лицами в окнах.
Полупустой трамвай ковылял, раскачиваясь, мимо заводоуправления, больницы и лабазов. Город замедлился, люди перемещались, будто подвешенные к небу за веревочки. Пока вагон ехал, я начал просчитывать варианты. Что теперь с отцом, вредно даже воображать. Остальных могли эвакуировать из Ярцева, а могли и оставить. Куда теперь бежать, чтобы их искать, было решительно непонятно. Хорошо, а я? Воевать? Но кого защищать – эту власть? Сейчас я желал самого страшного ей и ее жрецам. Вспомнился Воскобойник. С другой стороны, с запада неслась нечисть. Если даже нам врали о том, какие звери эти фашисты, все равно их войска захватывали, убивали, сжигали, и кто-то должен был защищать от них мать и девочек. Толя, надо думать, уже пошел в военкомат. Прикрыв глаза, я вообразил наш дом и свою комнату, мальчика с собакой, стоявшего у форточки. Мальчик обернулся и посмотрел на меня.
Однажды на каникулах отец взял меня тушить пожар. Лето было сухим, пахло дымом, и все ждали стены пламени. Лесник велел созвать всех взрослых мужчин. Мы выкопали траншею, на которой предстояло встретить огонь. Дым скрывал все, что происходило вокруг. Загонщики встали цепью, и лесник вдруг раздал факелы из тряпок, смоченных бензином. Раздался треск, будто навстречу бежали звери, клубы сгустились, в дальних кронах мелькнули рыжие сполохи. «Поджигай!» – крикнул лесник, и мы пустили огонь навстречу. Пламя успело заняться, встать стеной и поползти к встречному пожару. Наткнувшись друг на друга, обе стены упали и исчезли, оставив лишь дым. Мы бросились заливать блуждающие по земле языки огня. Лесник, закопченный и облепленный паутиной, потом объяснял, как одна стена врезается в другую и между ними не остается кислорода, и гореть уже нечему. Теперь я подумал, что эта война – такой же пожар.
Трамвай перебирался через мост над маслянистой как нефть Тьмакой, и я уже знал, как поступлю. Топографы попадали под бронь, то есть воевать меня бы не призвали, но при этом всюду говорили, что, если кто-то добровольно хочет сейчас же зачислиться в армию, не взять его не могут. Судя по тому, как быстро границы фронта наплывали на Москву, водный трест скоро должны были вывезти куда-то далеко. Я решил, что если запишусь добровольцем, то, во-первых, меня навсегда перестанут держать в списках возможных предателей как сына врага народа, а во-вторых, я, конечно, не смогу распоряжаться собой, но все же у меня, как у военного топографа, будет больше возможностей ходить в отпуск и через полевые связи искать своих несчастных родных.
Слева мелькнула краснокирпичная школа, и вагон приблизился к площади, где каменный истукан шагал куда-то со свернутой газетой в руке. Я стащил чемодан на остановке и пошел к военкомату. Затем бродил полчаса по кварталу, ища вывеску или хотя бы очередь таких же записывающихся, как я. Нет, в одноэтажных каменных особняках даже не горел свет, ни одна дверь не была открыта. Заметив прячущуюся во дворах церковь, я решил справиться там. У двери в притвор висела вывеска с надписью «Осоавиахим». Наверное, он был пророком, этот Осоавиахим. Авраам, Мельхиседек, Мафусаил и он. На стук вышел сторож и подсказал, куда идти.
В военкомат входили со двора. Очереди не было, впрочем, и с этой стороны, и во всем здании дежурили два офицера. Всех обязанных они отправили на фронт две недели назад и теперь придирались и грозили, что медкомиссия всегда найдет, за что меня завернуть. Потом начали хвалить: мол, таких, как ты, очень мало, кто по своему желанию, и уговаривали, уговаривали, расписывали преимущества брони, напирали на то, что гидротехников и так не хватает. В конце концов явился пожилой подполковник и сказал: «Не волнуйся, война догонит». Едва удержавшись, чтобы не ответить «Меня уже догнала», я сказал: «Не хочу. Я ненавижу их всех. Я хочу защищать своих». Подполковник открыл рот, чтобы возразить, но увидел, что я превратился в камень, и положил передо мной чистый лист.
II
Все началось с того, что замерзли ноги. Почти сразу, едва мы выкатились белой волной в лес и прошли первые километры сквозь сосны. Ночью поезд замедлил ход в Черном Доре, раздался короткий крик – и на полустанок спрыгнули сотни человек в маскхалатах и направились в разные стороны. Все получили широкие лыжи с петлями и низкие ботинки, в которые набивался снег. Если бы я знал, что нам не выдадут гамаши, то сшил бы их сам. Даже на долгих переходах, когда мы разгонялись на целинном твердом насте и не проваливались, ступни все равно превращались в два ледяных бруска. Костров мы не жгли, чтобы не быть обнаруженными, а приходя к месту ночевки – вернее, дневки; передвигались только в темноте, – надевали валенки, рубили лапник, расстилали плащ-палатки и падали спать в обнимку друг с другом и с ботинками за пазухой, чтобы хоть как-то отогреть их задубелую кожу.
Застыли ветви, птицы, камни, все стало мертвым той зимой. Шел седьмой месяц войны, батальон огибал озеро, чтобы пройти в тыл противнику сквозь болота. Немцы оставили полосу в двести километров трясин и топей незащищенной, видимо, думая, что глупо тем, кто только что оборонял свой главный город и заставил их остановиться, устраивать многокилометровый переход к врагу за спину на самом глухом и неважном направлении, которое даже формально было трудно отнести к тому или иному фронту. Но тем не менее нас доставили сюда. У каждого были автомат, валенки, каска, штык-нож, смена белья и паек на пять дней. Горбатые от торчащих под маскхалатами мешков и автоматов, впрягшись по двое в волокуши, мы тащили минометы, пулеметы и коробки боеприпасов. Сначала мы пробирались через сосновые боры, за которыми иногда показывалась равнина озера, а затем началось редколесье. Через болота на запад шла единственная твердая дорога, и по ней продвигались стрелки́ и танки. Там все-таки нашлись кое-какие немецкие части, но после первого же боя они рассеялись. Где-то далеко их армия будто по линейке прочертила линию укреплений и поставила у нее свои дивизии. Поэтому мы перемещались в тишине и лишь однажды слышали далекий гром канонады. Когда мы одолели половину пути, командир объявил: группа должна достигнуть города Холм с другими лыжными батальонами, пока противник не успел переправить на плацдарм новые силы и закрепить его за собой.
До того декабря я проводил все свое время среди механизмов, фонарей, машин, приборов, в кварталах, более-менее расчерченных проектировщиком. Теперь же мы катились среди нескончаемого белого, раздвигая палками сухие травы и отворачиваясь от ветра. Каждый стал сгорбленным уставшим зверем. На болотах все чаще встречался прозрачный лед с застывшими под ним космами трясины, и изгнать холод из тела было невозможно. Чтобы ужиться с ним, заговорить как боль, был один способ – каждую секунду действовать: натирать лыжи, устраивать ночлег, проситься в разведку, лепить снежную стену от ветра. Даже если не требовалась рекогносцировка, я уходил переносить на карту «изменившуюся ситуацию» – так это называлось. Из-за очень старых километровок, редко угадывавших, что нам предстояло увидеть, приходилось рисовать планы заново. Отойдя от стоянки как можно дальше, я вслушивался. Болота молчали, редкие деревни мы обходили, никакие существа нам не попадались, только следы птиц да несколько раз волчьи. Ожидание войны выдуло жизнь из синевы и леса, чья громада шевелилась перед нами как клочок травы, когда мы строились, чтобы продолжить путь в сумерках. Оставшись один, я ложился в снег и смотрел, как по черному небу надо мной плывут мама, отец, Оля, Маргариточка, Анатолий. Это было последнее время, когда я думал о них постоянно. Облака быстро сносил ветер.
Калининскую нашу часть приписали к десантным войскам и расквартировали на левом берегу Волги. Сначала часто менялись офицеры, потом из группы таких же, как я, добровольцев стали забирать самых рослых, сильных и удачливых в стрельбе. К осени нас перевели в лыжников и привезли под Москву. Курсантов изолировали ото всех новостей, и когда я попробовал узнать хоть что-нибудь про Ярцево, то понял лишь, что город был несколько месяцев в осаде и фабрику не успели эвакуировать. Это значило, что мои ушли с беженцами или остались под немцами. За столь долгое время город наверняка разбомбили, не оставив живого места, но нашу глухую окраину могли и пощадить. Навести справки было негде. В середине октября роту подняли по тревоге. Замполит сказал, что бои уже совсем близко, и мы сели на вещмешки и стали ждать грузовиков, но грузовики отчего-то не приехали, а потом переброску отменили.
Радио рапортовало, что немцы отодвинуты от Москвы. Ходили слухи, что грядет парад с вождем на трибуне и самолетами, и нас должны были везти на репетицию этого парада, но тоже почему-то не повезли. Батальон все чаще загоняли при полной выкладке на крутые склоны. Однажды привезли на Ленинские горы, откуда была видна вся Москва, притихшая, с застывшим над трубами дымом. На привале я достал бинокль. Над задрапированными домами как снулые рыбы плавали аэростаты. Город огибала безжизненная река. В тот день я нетвердо воткнул сомкнутые палки в снег, сорвался на траверсе и вывихнул ногу, а когда вернулся из санчасти, батальону объявили о включении в ударную армию и переброске к местам боев.
Вместо пяти дней мы петляли между пустошами и продирались сквозь подлески уже неделю. Пайки кончались, и после учебного лагеря с его скудной, но хотя бы горячей едой все страдали от изжоги. Впрочем, в лагере нам доставалось крайне мало еды, даже когда заурядную учебку превратили в курсы лейтенантов. Вокруг жаловались, что на передовой порции больше, и поэтому многие рвались туда. Мало кто понимал, что с полевой кухней все было в порядке только у частей, воевавших у неподвижной или хотя бы медленно двигающейся линии фронта – причем там, где есть какие-никакие дороги. А там, где случалось бездорожье или беспутица, провиант задерживался, пропадал и тонул. Наконец мы подобрались к Холму и, не доходя нескольких километров до окраины, получили приказ обогнуть его с востока. Оказалось, партизаны неожиданно напали на немцев и захватили некоторые районы, а подоспевшие части замкнули вокруг Холма кольцо, отрезав противника от спешивших к нему на помощь танков. Мы оказались бесполезны, но командиры опасались, что, стремясь быстро вернуть себе Холм, черные немедленно начнут наступление по всему фронту, и приказали лыжникам рассредоточиться вдоль его линии – на десятки километров вдоль единственной в этом унылом краю твердой дороги, ведущей на север к Старой Руссе. Нас послали в Поддорье, чтобы объединить с полком, зазимовавшим чуть западнее этого села.
Когда мы добрались, рассвело. Среди стволов на розовеющем снегу взгибались белые холмы, похожие на погребальные курганы скифов. Это были землянки. В некоторые намело, печки стояли не везде, и поэтому нас определили в блиндажи, где топили. Пехота с осени вжалась в заболоченный ельник на краю болота, которое никто не пытался захватывать, потому что оно было непроходимо. С другого его берега точно так же лежали касками в мерзлую грязь немцы. В окопах стояла вода, превратившаяся в линзы льда. Более-менее сухая земля для землянок и блиндажей начиналась ближе к насыпной дороге, но все равно глубоко вкопаться не получалось нигде. Само шоссе, по чьим ухабам могли осторожно пробираться автомобили, несколько километров контролировала дивизия, затем следовал простреливаемый участок, где ездили только ночью в непогоду, и наконец дорога становилась линией фронта, такой же ничьей территорией. Из-за этих угрюмых обстоятельств полк, в который нас влили, снабжали кое-как и с перебоями.
Я бросил мешок, откинулся на полог и, разморенный накатившим впервые за долгое время жаром, заснул, но ненадолго. Меня кто-то тряс за плечо. Во тьме чиркнула зажигалка и осветила рябое лицо и погоны капитана. «Соловьев, сдавайте оружие, и идем». Видя мое замешательство, он добавил: «В штаб». Я сунул ему автомат, и мы зашагали по твердо набитой и широкой, как тротуар, тропе. Велижев – так звали капитана – объяснил, что топографа ждали давно, карты ни к черту и командир полка послал его, помощника начштаба, как можно скорее разыскать специалиста. Вокруг трубы, торчащей из земли, струился жидкий дым. Землянки здесь вырыли насыпные и замаскировали дерном. Как жить на таких позициях весной, было неясно. Велижева передернуло от вопроса: «Что весна-то? Снег разбросал, окопался кое-как, ну, воду вычерпал. А вот в конце мая вылетает мошка и никакого Гитлера не надо, просто полежи в окопе час. Она тебя так съест, что кровь на глаза будет литься, успевай только вытирать».
Круглов сразу усадил меня за стол и пододвинул стакан с чаем. Его блиндаж выложили сосновыми бревнами в пять накатов. Комнаты выглядели точно картинки из учебника военного дела: карты на столах, скамьи для комбатов и взводных, линейки, карандаши, циркули, резинки, выметенный пол, запах свечного пригара. Вспомнились тени вышегорской церкви и бормотание кафизм. На стенах висели плакаты красных светочей, зодчих, рулевых и агитация «Победа коммунизма неизбежна». Рядом стояли книги, разглядеть которые я не успел, потому что Круглов намеревался не затягивать разговор. «Соловьев, – сказал он. – Не буду вас долго мурыжить. Здесь – болота. Южнее, севернее и западнее наших позиций тоже болота – на много кэмэ. Самое большое болото рассекается речками, которые до сих пор не замерзли. Поэтому там нет ни фашистов, ни нас, и пока это так, меня интересует остальная местность. Карты у нас сами знаете какие…» Я закивал, давая понять, что уже знаю. «С вашим появлением в полку я ожидаю, что карты будут исправлены. Стечев, заместитель по разведке, вас проинструктирует, какие участки нам важны в первую очередь. Докладывать будете ему. В отдельных случаях – отчитываться начальнику штаба. В совсем уж крайних – мне, но лучше бы такого не случалось. Поняли?» Несмотря на месяцы, проведенные в учебном лагере, я не научился держать себя в руках и остановил взгляд на книгах. Кажется, там мелькнул Кант. Комполка не заметил и окончил разговор обещанием дать ассистентов и выписать прибор и инструменты.
К вечеру задул сырой, чуть теплый ветер. Велижев привел меня к блиндажу главного разведчика. Тот вышел с папиросой, протянул мне руку, посмотрел и вздохнул. Мы сели на корточки на вытоптанной площадке и прислонились к сосне. «Еще и не куришь, – сказал он и достал из-за пазухи два листа. – Это немецкая». Я впился в карту: цвета они использовали чуть другие, желтый гуще, ближе к охре, рельеф наносили очень детально даже для километровки, а вот породы и высота деревьев их не волновали. Стечев показал еще несколько разрозненных листов, а затем вынул советскую километровку и прижал палец к озерцу: «Вот этого нет. Мы подошли, а там густой ельник, причем деревья в несколько человеческих ростов. Если бы озеро обмелело, оно превратилось бы в болото. А так… Не знаю, лейтенант, как так вышло, но у нас карты говно, а у них нет». Мы поразглядывали листы еще немного, и он произнес с мягким южным выговором: «У меня есть, конечно, объяснение. Вот летали самолеты из Москвы в Германию. Кто его знает, какая у них начинка, что у них там в фюзеляже спрятано и какой дорогой каждый из них до границы добирается. Вылетел, летит… А может, он посреди дороги петлю заложил на северо-запад, и пролетел над Рдеей, и все сфотографировал, а потом фьють в Берлин. Там твои братья-геодезисты расшифровали, и на тебе, точная карта готова». «Над чем пролетел?» – уточнил я. «Рдея, – повторил Стечев. – Эти края называются Рдея. И болото здешнее – бывшее Рдейское озеро. Там беглые жили всегда, и сейчас, кажется, живут, не успели сбежать. Рельефа здесь мало, только у Ловати и Полисти кое-где крутые берега, а так равнина. Прятаться некуда». Стечев вновь вздохнул, он казался крайне уставшим. Я объяснил, что аэросъемка еще не настолько совершенна, чтобы, паря в небесах над чужой страной, кто-то смог ее снять и сделать из этого материала километровку. В конце концов мы расстались на том, что он пришлет бойцов, которые будут мне помогать.
Вернувшись к блиндажу, я забрал вещмешок и лыжи, и Велижев показал мне землянку, предназначенную для топографа и его ассистентов. Не так уж далеко начали бухать взрывы, звук был тугой, притупленный. Ни одна ветка в лесу, впрочем, не дрогнула. Велижев пустился в разъяснения, что передовую обстреливают, когда вздумается, то по утрам, то ночью, то вовсе раз в три дня, и если сначала они искали какую-то систему, то с тех пор, как фронт встал и приказа двигаться не поступало, плюнули на это дело. Я спустился в склеп. Стены его покрывала изморозь, настил был сколочен из горбатых досок, а у печки с погнутой дверцей кто-то оставил на листе железа немного сосновых чурбачков. Огонь разгорался медленно, и, глядя на первый пепел, я согрелся, отодвинулся, закрыл глаза в одиночестве и только тогда принял новый мир, в котором придется жить.
Близнецы явились в сумерках, и я не сразу понял, как отличать одного от другого. Звали их Костя и Полуект. Родились они на Белом море, в тамошних деревнях всем давали диковинные имена. Например, их тетку назвали Африканидой, а дед был наречен Христофором. У Кости алел шрам через щеку от драки за сестру, на которую претендовали инспектор райотдела и капитан карбаса. Он был огромен, но неповоротлив, возился с лошадьми и санями и не слишком радовался тому, что его изъяли для нужд топосъемки. Полуект служил в пехоте и также оказался гороподобен. Я выспросил у близнецов, знают ли они хоть что-нибудь о съемке, и убедился, что нет, не знают. Поскольку они были несловоохотливы и производили впечатление людей деятельных, я решил не просить других помощников. Мне выдали наган, а близнецы имели по винтовке – вот и все вооружение нашего маленького воинства.
Первые дни близнецы смотрели на меня как на существо, сошедшее с небес. Шинель у меня была свежая и непромерзшая, сухая, а маскхалат почти что отутюженный. И главное, по мне никто не ползал. Однако я быстро растерял принесенное с собой благополучие. Вши переживали холод, и, когда я выносил вещи на мороз и закапывал в снег – они все равно оживали и продолжали свой путь из подкладки до проймы, далее по спине и к подмышкам. Жар от свечи, которую проносили под швами, рискуя подпалить ткань, их также не пугал. Вшей было столько, что иногда казалось, воротник шевелится, и, когда я стряхивал с него полчища, их колония продолжала жить и размножаться, будто ничего не случилось и десятки товарищей не сорвались вниз. Пока насыпную дорогу контролировали красные, рота за ротой раз в месяц уходили на сутки в тыл, залезали в палатку-баню и мылись. Тем временем их белье и одежду жарили на противне. Спать они ложились на застеленную кровать, проглотив сто грамм водки, и наутро их не будили, потому что знали, что вши возвращаются быстро – в следующую же ночь на позициях люди ощутят кожей их прибытие и в первую минуту понадеются, как с зубной болью, что оно лишь померещилось, но потом прислушаются к нервным сигналам и смирятся: оно, опять. А потом линия фронта и вовсе дрогнула, к тому же началась распутица, перебои с пищей, не то что с мытьем, вонь и голод. Штабные грызли галеты и разводили гороховый суп-концентрат. Пехота ловила тюки с провизией, которыми немецкие пилоты промахивались мимо своих позиций, – обычно там находили консервы, но я слышал и божбу связиста, что под Новый год их рота поймала ящик мозельского. Санчасть силой поила всех противоцинготным отваром: хвоя ужасно горчила и сжимала горло так, что несколько минут трудно было говорить. Многих шатало от голода, часовые теряли сознание, хотя комбаты перед строем грозили за это расстрелом. За сухостоем приходилось пробираться глубоко в тыл, и все равно дров не хватало. Холод вновь поселился в теле. И все-таки это было благоденствие.