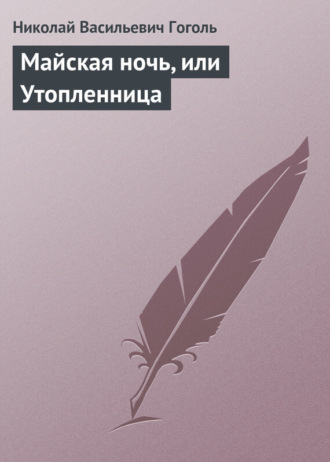
Николай Гоголь
Майская ночь, или Утопленница
– Что-то как старость придёт!.. – ворчал Каленик, ложась на лавку. – Добро бы, ещё сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-богу, не пьян! Что мне лгать! Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтоб он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого чёрта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе…
– Эге! влезла свинья в хату, да и лапы суёт на стол, – сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. – Если бы я знал, – говорил он, подымая камень, – какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы! – продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. – Чтоб он подавился этим камнем…
– Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват! – подхватил, побледневши, винокур. – Боже сохрани тебя, и на том и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такою побранкою!
– Вот нашёлся заступник! Пусть он пропадёт!..
– И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тёщей моей?
– С тёщей?
– Да, с тёщей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная тёща, покойный тесть, да наймыт, да и наймычка, да детей штук с пятеро. Тёща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг, откуда ни возьмись, человек – какого он роду, бог его знает, – просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покамест те съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Тёща насыпала ещё; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Ещё лучше стал уплетать! и другую выпорожнил! «А чтоб ты подавился этими галушками!» – подумала голодная тёща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему – и дух вон. Удавился.
– Так ему, обжоре проклятому, и нужно! – сказал голова.
– Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было тёще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днём всё покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать – погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу.
– И галушка в зубах?
– И галушка в зубах.
– Чудно, сват! Я слыхал что-то похожее ещё за покойницу царицу…
Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее; несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем:
Хлопцы, слышали ли вы?
Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
В голове расселись клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами, батогами!
Голова наш сед и крив;
Стар, как бес; а что за дурень!
Прихотлив и похотлив:
Жмётся к девкам… Дурень, дурень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам да по шеям!
За чуприну! за чуприну!
– Славная песня, сват! – сказал винокур, наклоня немного набок голову и оборотившись к голове, остолбеневшему от удивления при виде такой дерзости. – Славная! Скверно только, что голову поминают не совсем благопристойными словами… – И опять положил руки на стол с каким-то сладким умилением в глазах, приготовляясь слушать ещё, потому что под окном гремел хохот и крики: «Снова! снова!» Однако ж проницательный глаз увидел бы тотчас, что не изумление удерживало долго голову на одном месте. Так только старый, опытный кот допускает иногда неопытной мыши бегать около своего хвоста, а между тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Ещё одинокий глаз головы был устремлён на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик… Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались.
– Нет, ты не ускользнёшь от меня! – кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. – Карпо, отворяй комору! – сказал голова десятскому. – Мы его в тёмную комору! А там разбудим писаря, соберём десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем им учиним!
Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его.
– Куда? – закричал голова, ухватив его ещё крепче за ворот.
– Пусти, это я! – слышался тоненький голос.
– Не поможет! не поможет, брат! Визжи себе хоть чёртом, не только бабою, меня не проведёшь! – и толкнул его в тёмную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, и, в сопровождении десятского, отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.
В размышлении шли они все трое, потупив головы, и вдруг, на повороте в тёмный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.
– А я к тебе иду, пан писарь.
– А я к твоей милости, пан голова.
– Чудеса завелися, пан писарь.
– Чудные дела, пан голова.
– А что?
– Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами… словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. (Всё это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперёд и приведением её тот же час в прежнее состояние.) Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да покамест надел шаровары и жилет, все разбежались куда ни попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у чёрта, что куёт гвозди для грешников.
– А как он одет, пан писарь?
– В чёрном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова.
– А не лжёшь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?
– Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь сказано, погрешил немного.
– Давайте огня! мы посмотрим его!
Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев перед собою свояченицу.
– Скажи, пожалуйста, – с такими словами она приступила к нему, – ты не свихнул ещё с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в тёмную комору? Счастье, что не ударилась головою об железный крюк. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали черти!..
Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.
– Да, я вижу, что это ты! – сказал голова, очнувшись. – Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорвиголова?
– Шельма, пан голова.
– Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом?
– Давно пора, давно пора, пан голова.
– Они, дурни, забрали себе… Кой чёрт? мне почудился крик свояченицы на улице… они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак! – Небольшой последовавший за сим кашель и устремление глаза исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовился говорить о чём-то важном. – В тысячу… этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару тогдашнему Ледачему дан был приказ выбрать из козаков такого, который бы был посмышлёнее всех. О! – это «о!» голова произнёс, поднявши палец вверх, – посмышлёнее всех! в проводники к царице. Я тогда…
– Что и говорить! это всякий уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?
– А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберёмся и до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чёртовы дети отказалися вымолотить моё жито; я не забыл… Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе.
– Это проворная, видно, птица! – сказал винокур, которого щёки в продолжение всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. – Эдакого человека не худо, на всякий случай, и при виннице держать; а ещё лучше повесить на верхушке дуба вместо паникадила.
Такая острота показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, наградить себя хриплым смехом.
В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот ключ был от сундука его. Нетерпение увеличилось. Засунув руку, начал он шарить и сыпать побранки, не отыскивая его. «Здесь!» – сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилось так сильно, что неровный стук его не был заглушён даже брякнувшим замком. Двери отворились, и… Голова стал бледен как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих: перед ними стояла свояченица!







