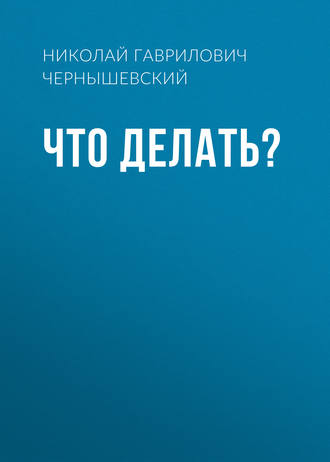
Николай Чернышевский
Что делать?
XV
Крюкова досказала Вере Павловне свою историю уже в другие дни. Они с Кирсановым прожили около двух лет. Признаки начинавшейся болезни как будто исчезли. Но в конце второго года, когда пришла весна, чахотка вдруг обнаружилась уже в сильном развитии. Жить с Кирсановым значило бы Крюковой обрекать себя на скорую смерть. Отказавшись от этой связи, она могла еще рассчитывать, что болезнь опять заглохнет надолго. Они решились расстаться. Заниматься какою-нибудь усидчивою работою также значило бы губить себя. Надобно было искать должности экономки, горничной, няньки – что-нибудь такое, – и у такой госпожи, при которой не было бы утомительных обязанностей, да не было бы – это главное – и неприятностей: условия довольно редкие. Но нашлось такое место. У Кирсанова были знакомства между начинающими артистами; через них Крюкова определилась в горничные к одной из актрис русского театра, отличной женщине. Долго расставались они с Кирсановым и не могли расстаться: «завтра отправляюсь на свою должность», и одно завтра проходило за другим: плакали, плакали, и все сидели обнявшись, пока уже сама актриса, знавшая, по какому случаю поступает к ней горничная, приехала за нею сама: догадалась, почему горничная долго не является, и увезла ее от продления разлуки, вредного для нее.
Пока актриса оставалась на сцене, Крюковой было очень хорошо жить у ней: актриса была женщина деликатная. Крюкова дорожила своим местом – другое такое трудно было бы найти; за то, что не имеет неприятностей от госпожи, Крюкова привязалась и к ней; актриса, увидев это, стала еще добрее. Крюковой было очень спокойно, и болезнь ее не развивалась или почти не развивалась. Но актриса вышла замуж, покинула сцену, поселилась в семействе мужа. Тут, как уж и прежде слышала Вера Павловна, отец мужа актрисы стал привязываться к горничной; добродетель Крюковой, положим, и не подвергалась искушению, но началась домашняя ссора: бывшая актриса стала стыдить старика, старик стал сердиться. Крюкова не хотела быть причиною семейного раздора, да если б и хотела, уж не имела спокойной жизни на прежней должности, и бросила ее.
Это было года через два с половиною после разлуки с Кирсановым. Она уже вовсе не виделась с ним в это время. Сначала он навещал ее; но радость свиданья так вредно действовала на нее, что он вытребовал у нее позволения не бывать у ней для ее же пользы. Крюкова попробовала жить горничною еще в двух-трех семействах; но везде было столько тревог и неприятностей, что уж лучше было поступить в швеи, хоть это и было прямым обречением себя на быстрое развитие болезни: ведь болезнь все равно развивалась бы и от неприятностей, – лучше же подвергаться той же судьбе без огорчений, только от одной работы. Год швейной работы окончательно подрезал Крюкову. Когда она поступила в мастерскую Веры Павловны, Лопухов, бывший там домашним врачом, делал все возможное, чтобы задержать ход чахотки, сделал много, то есть много по трудности того небольшого успеха, который получил; но развязка приближалась.
Крюкова до последнего времени находилась в обыкновенном заблуждении чахоточных, воображая, что ее болезнь еще не слишком развилась, потому и не отыскивала Кирсанова, чтобы не вредить себе. Но уже месяца два она очень настойчиво допрашивала Лопухова, долго ли ей остается жить. Зачем это нужно знать ей, она не сказывала, и Лопухов не почел себя вправе прямо говорить ей о близости кризиса, не видя в ее вопросах ничего, кроме обыкновенной привязанности к жизни. Он успокоивал ее. Но она, как чаще всего случается, не успокоивалась, а только удерживалась от исполнения того, что могло доставить отраду ее концу; сама она видела, что ей недолго жить, и чувства ее определялись этою мыслью, но медик уверял ее, что она еще должна беречь себя; она знала, что должна верить ему больше, чем себе, потому слушалась и не отыскивала Кирсанова.
Конечно, это недоразумение не могло бы быть продолжительно; по мере приближения развязки расспросы Крюковой делались бы настойчивее; она или высказала бы, что у ней есть особенная причина знать истину, или Лопухов или Вера Павловна догадались бы, что есть какая-то особенная надобность в ее расспросах, и двумя-тремя неделями, быть может, несколькими днями позже дело все-таки пришло бы к тому же, к чему пришло несколько раньше, благодаря неожиданному для Крюковой появлению Кирсанова в мастерской. Но теперь недоразумение было прекращено не дальнейшим ходом расспросов, а этим случайным обстоятельством.
– Как я рада, как я рада! ведь я все собиралась к тебе, Сашенька! – с восторгом сказала Крюкова, когда ввела его в свою комнату.
– Да, Настенька, и я не меньше тебя рад: теперь не расстанемся; переезжай жить ко мне, – сказал Кирсанов, увлеченный чувством сострадательной любви, и, сказавши, тотчас же вспомнил: как же я сказал ей это? ведь она, вероятно, еще не догадывается о близости кризиса?
Но она или не поняла в первую минуту того смысла, который выходил из его слов, или поняла, но не до того ей было, чтобы обращать внимание на этот смысл, и радость о возобновлении любви заглушила в ней скорбь о близком конце, – как бы то ни было, но она только радовалась и говорила:
– Какой ты добрый, ты все по-прежнему любишь меня.
Но когда он ушел, она поплакала; только теперь она или поняла, или могла заметить, что поняла смысл возобновления любви, что «мне теперь уж нечего беречь тебя, не сбережешь; по крайней мере, пусть ты порадуешься».
И действительно, она порадовалась: он не отходил от нее ни на минуту, кроме тех часов, которые должен был проводить в гошпитале и Академии; так прожила она около месяца, и все время были они вместе, и сколько было рассказов, рассказов обо всем, что было с каждым во время разлуки, и еще больше было воспоминаний о прежней жизни вместе, и сколько было удовольствий: они гуляли вместе, он нанял коляску, и они каждый день целый вечер ездили по окрестностям Петербурга и восхищались ими; человеку так мила природа, что даже этою жалкою, презренною, хоть и стоившею миллионы и десятки миллионов, природою петербургских окрестностей радуются люди; они читали, они играли в дурачки, они играли в лото, она даже стала учиться играть в шахматы, как будто имела время выучиться.
Вера Павловна несколько раз просиживала у них поздние вечера по их возвращении с гулянья, а еще чаще заходила по утрам, чтобы развлечь ее, когда она оставалась одна; и когда они были одни вдвоем, у Крюковой только одно и было содержание длинных, страстных рассказов – какой Сашенька добрый, и какой нежный, и как он любит ее!
XVI
Прошло месяца четыре. Заботы о Крюковой, потом воспоминания о ней обманули Кирсанова: ему казалось, что теперь он безопасен от мыслей о Вере Павловне; он не избегал ее, когда она, навещая Крюкову, встречалась и говорила с ним, и потом, когда она старалась развлечь его. Пока он грустил, оно и точно, в его сознательных чувствах к Вере Павловне не было ничего, кроме дружеской признательности за ее участие.
Но – читатель уже знает вперед смысл этого «но», как и всегда будет вперед знать, о чем будет рассказываться после страниц, им прочтенных, – но, разумеется, чувство Кирсанова к Крюковой при их второй встрече было вовсе не то, как у Крюковой к нему: любовь к ней давным-давно прошла в Кирсанове; он только остался расположен к ней, как к женщине, которую когда-то любил. Прежняя любовь его к ней была только жаждой юноши полюбить кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Разумеется, Крюкова была ему не пара, потому что они не были пара между собою по развитию. Когда он перестал быть юношею, он мог только жалеть Крюкову, не больше; мог быть нежен к ней по воспоминанию, по состраданию – и только. Грусть его по ней в сущности очень скоро сгладилась; но когда грусть рассеялась на самом деле, ему все еще помнилось, что он занят этою грустью, а когда он заметил, что уже не имеет грусти, а только вспоминает о ней, он увидел себя в таких отношениях к Вере Павловне, что нашел, что попал в большую беду.
Вера Павловна старалась развлекать его, и он поддавался этому, считая себя безопасным или, лучше сказать, и не вспоминая, что ведь он любит Веру Павловну, не вспоминая, что, поддаваясь ее заботливости, он идет на беду. Да и что же было теперь, через два-три месяца после того, как Вера Павловна стала развлекать его от грусти по Крюковой? Ничего больше, кроме того, что он все это время почти каждый вечер или проводил у Лопуховых, или провожал куда-нибудь Веру Павловну, провожал часто вместе с мужем, чаще – один. Только и было. Но этого было слишком довольно и для нее, не только для него.
Какой был теперь характер дня Веры Павловны? До вечера тот же самый, как и прежде. Но вот шесть часов. Бывало, она в это время идет одна в свою мастерскую или сидит в своей комнате и работает одна. А теперь, если ей нужно быть в мастерской вечером, об этом уже накануне сказано Кирсанову, и он является провожать ее. По дороге туда и оттуда, впрочем очень не дальней, они толкуют о чем-нибудь, обыкновенно о мастерской: Кирсанов самый деятельный ее помощник по мастерской. Там она занята распоряжениями, и у него тоже много дела: разве мало набирается у тридцати девушек справок и поручений, которые удобнее всего исполнить ему? А между этих дел он сидит, болтает с детьми; тут же несколько девушек участвуют в этом разговоре обо всем на свете – и о том, как хороши арабские сказки «Тысяча и одна ночь», из которых он много уже рассказал, и о белых слонах, которых так уважают в Индии, как у нас многие любят белых кошек: половина компании находит, что это безвкусие, – белые слоны, кошки, лошади – все это альбиносы, болезненная порода, по глазам у них видно, что они не имеют такого отличного здоровья, как цветные; другая половина компании отстаивает белых кошек. «А не знаете ли вы чего-нибудь поподробнее о жизни самой г-жи Бичер-Стоу, роман которой мы все знаем по вашим рассказам?» – говорит одна из взрослых собеседниц; нет, Кирсанов теперь не знает, но узнает, это ему самому любопытно, а теперь он может пока рассказать кое-что о Говарде, который был почти такой же человек, как г-жа Бичер-Стоу. Так идут то рассказы Кирсанова, то споры Кирсанова с компанией, детская половина которой постоянно одна и та же, а взрослая половина беспрестанно переменяется. Но вот Вера Павловна кончила свои дела, она возвращается с ним домой к чаю, и они долго сидят втроем после чаю; теперь Вера Павловна и Дмитрий Сергеич просидят вместе гораздо больше времени, чем когда не было тут же Кирсанова. Почти каждый из вечеров, которые они проводят только втроем, устроивается на час и даже часа на два музыка: Дмитрий Сергеич играет, Вера Павловна поет, Кирсанов сидит и слушает; иногда Кирсанов играет, тогда Дмитрий Сергеич поет вместе с женою. Но теперь часто случается, что Вера Павловна спешит из мастерской, чтобы успеть одеться в оперу: теперь они очень часто бывают в опере, наполовину втроем, наполовину один Кирсанов с Верою Павловною. И, кроме того, у Лопуховых чаще прежнего стали бывать гости; прежде, не считая молодежи – какие ж это гости, молодежь? это племянники только, – бывали почти только Мерцаловы; теперь Лопуховы сблизились еще с двумя-тремя такими же милыми семействами. Мерцаловы и еще два семейства положили каждую неделю поочередно иметь маленькие вечера с танцами, в своем кругу, – бывает по 6 пар, даже по 8 пар танцующих. Лопухов без Кирсанова не бывает почти никогда ни в опере, ни в знакомых семействах, но Кирсанов часто один провожает Веру Павловну в этих выездах. Лопухов говорит, что хочет остаться в своем пальто, на своем диване. Поэтому только половину вечеров проводят они втроем, но эти вечера уже почти без перерыва втроем; правда, когда у Лопуховых нет никого, кроме Кирсанова, диван часто оттягивает Лопухова из зала, где рояль; рояль теперь передвинут из комнаты Веры Павловны в зал, но это мало спасает Дмитрия Сергеича: через четверть часа, много через полчаса Кирсанов и Вера Павловна тоже бросили рояль и сидят подле его дивана; впрочем, Вера Павловна недолго сидит подле дивана; она скоро устроивается полуприлечь на диване, так, однако, что мужу все-таки просторно сидеть: ведь диван широкий; то есть не совсем уж просторно, но она обняла мужа одною рукою, поэтому сидеть ему все-таки ловко.
Вот таким-то образом прошло месяца три и побольше.
Идиллия нынче не в моде, и я сам вовсе не люблю ее, то есть лично я не люблю, как не люблю гуляний, не люблю спаржи, – мало ли до чего я не охотник? ведь нельзя же одному человеку любить все блюда, все способы развлечений; но я знаю, что эти вещи, которые не по моему личному вкусу, очень хорошие вещи, что они по вкусу, или были бы по вкусу, гораздо большему числу людей, чем те, которые, подобно мне, предпочитают гулянью – шахматную игру, спарже – кислую капусту с конопляным маслом; я знаю даже, что у большинства, которое не разделяет моего вкуса к шахматной игре и радо было бы не разделять моего вкуса к кислой капусте с конопляным маслом, что у него вкусы не хуже моих, и потому я говорю: пусть будет на свете как можно больше гуляний, и пусть почти совершенно исчезнет из света, останется только античною редкостью для немногих подобных мне чудаков кислая капуста с конопляным маслом!
Точно так я знаю, что для огромного большинства людей, которые ничуть не хуже меня, счастье должно иметь идиллический характер, и я восклицаю: пусть станет господствовать в жизни над всеми другими характерами жизни идиллия. Для немногих чудаков, которые не охотники до нее, будут другие характеры счастья, а большинству нужна идиллия. А что идиллия не в моде и потому люди чуждаются ее, так ведь это не возражение: они чуждаются ее, как лисица в басне чуждалась винограда. Им кажется, что идиллия недоступна, потому они и придумали: «пусть она будет не в моде».
Но чистейший вздор, что идиллия недоступна: она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная, очень возможная; ничего трудного не было бы устроить ее, но только не для одного человека или не для десяти человек, а для всех. Ведь и итальянская опера – вещь невозможная для пяти человек, а для целого Петербурга – очень возможная, как всем видно и слышно; ведь и «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Москва, 1861 г.» вещь невозможная для десяти человек, а для всей публики очень возможная и недорогая, как всем известно. Но пока итальянской оперы для всего города нет, можно лишь некоторым, особенно усердным меломанам пробавляться кое-какими концертами, и пока 2-я часть «Мертвых душ» не была напечатана для всей публики, только немногие, особенно усердные любители Гоголя изготовляли, не жалея труда, каждый для себя, рукописные экземпляры ее. Рукопись не в пример хуже печатной книги, кое-какой концерт очень плох перед итальянской оперой, а все-таки хороша, все-таки хорош.
XVII
Если бы кто посторонний пришел посоветоваться с Кирсановым о таком положении, в каком Кирсанов увидел себя, когда очнулся, и если бы Кирсанов был совершенно чужд всем лицам, которых касается дело, он сказал бы пришедшему советоваться: «поправлять дело бегством – поздно; не знаю, как оно разыграется, но для вас бежать или оставаться – одинаково опасно, а для тех, о спокойствии которых вы заботитесь, ваше бегство едва ли не опаснее, чем то, чтобы вы оставались».
Разумеется, Кирсанов сказал бы это только такому человеку, как он сам или как Лопухов, человеку твердого характера и неизменной честности. С другими людьми бесполезно рассуждать о подобных положениях, потому что эти другие люди непременно поступают в таких случаях дрянно и мерзко: осрамят женщину, обесчестятся сами и потом идут по всей своей компании хныкать или хвастаться, услаждаться своею геройскою добродетелью или амурною привлекательностью. С такими людьми ни Лопухов, ни Кирсанов не любили толковать о том, как следует поступать людям благородным. Но говоря человеку своего закона, что бежать теперь чуть ли уже не хуже, чем оставаться, Кирсанов был бы прав. При этом подразумевалось бы: «Я знаю, как стал бы ты держать себя, оставаясь: ведь так, чтобы ничем не обнаружить своего чувства, потому что только в этом случае ты и не будешь негодяем, оставаясь. Задача в том, чтобы как можно более не нарушать спокойствия женщины, жизнь которой идет хорошо. Чтобы оно не нарушилось, этого, кажется, уже невозможно сделать. Чувство, несогласное с ее нынешними отношениями, уже, вероятно, – да чего тут, вероятно, проще говоря: без всякого сомнения, – возникло в ней, только она еще не замечает его. Скоро или нет оно обнаружится в ней для нее самой без всякого вызова с твоей стороны, неизвестно. Но твое удаление будет вызовом ему обнаружиться. Стало быть, твое удаление только ускорит дело, которого ты хочешь избежать».
Но Кирсанов рассуждал о деле не как посторонний человек, а как участник. Ему представлялось, что удалиться труднее, чем оставаться; чувство влечет его остаться, следовательно, остаться – не будет ли значить поддаться чувству, обольститься его внушениями? Какое право он имеет так безусловно верить, что ни словом, ни взглядом не обнаружит своего чувства, не сделает вызова? Потому вернее будет удалиться. В своем деле мудрено различить, насколько рассудок обольщается софизмами влечения, потому что честность говорит: поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, что ты поступишь благородно. Это в переводе с теоретического языка на обыкновенный; а теория, которой держался Кирсанов, считает такие пышные слова, как благородство, двусмысленными, темными, и Кирсанов по своей терминологии выразился бы так: «Всякий человек эгоист, я тоже; теперь спрашивается: что для меня выгоднее, удалиться или оставаться! Удаляясь, я подавляю в себе одно частное чувство; оставаясь, я рискую возмутить чувство своего человеческого достоинства глупостью какого-нибудь слова или взгляда, внушенного этим отдельным чувством. Отдельное чувство может быть подавлено, и через несколько времени мое спокойствие восстановится, я опять буду доволен своею жизнью. А если я раз поступлю против всей своей человеческой натуры, я навсегда утрачу возможность спокойствия, возможность довольства собою, отравлю всю свою жизнь. Мое положение вот какое: я люблю вино, и передо мною стоит кубок с очень хорошим вином; но есть у меня подозрение, что это вино отравлено. Узнать, основательно или нет мое подозрение, я не могу. Должен ли я пить этот кубок, или опрокинуть его, чтобы он не соблазнял меня? Я не должен называть своего решения ни благородным, ни даже честным, – это слишком громкие слова, я должен назвать его только расчетливым, благоразумным: я опрокидываю кубок. Через это я отнимаю у себя некоторую приятность, делаю себе некоторую неприятность, но зато обеспечиваю себе здоровье, то есть возможность долго и много пить такое вино, о котором я наверное знаю, что оно не отравлено. Я поступаю неглупо, вот и вся похвала мне».
XVIII
Каким же манером удалиться? Прежняя штука – притвориться обиженным, выставить какую-нибудь пошлую сторону характера, чтобы опереться на нее, – не годится: два раза на одном и том же не проведешь; вторая такая история лишь раскрыла бы смысл первой, показала бы его героем не только новых, но и прежних времен. Да и вообще от всякого быстрого перерыва отношений надобно отказаться; такое удаление было бы легче, но оно было бы эффектно, возбудило бы внимание, то есть было бы теперь пошлостью и низостью (по кирсановской теории эгоизма – глупостью, нерасчетом). Потому остается только один, самый мудреный и мучительный способ: тихое отступление медленным, незаметным образом, так чтоб и не заметили, что он удаляется. Тяжеловато и очень хитро это дело: уйти из виду так, чтобы не заметили твоего движения, когда смотрят на тебя во все глаза, а нечего делать, надобно действовать так. А впрочем, по кирсановской теории, это и не мучительно, а даже приятно; ведь чем труднее дело, тем больше радуешься (по самолюбию) своей силе и ловкости, исполняя его удачно.
И действительно, он исполнил его удачно: не выдал своего намерения ни одним недомолвленным или перемолвленным словом, ни одним взглядом; по-прежнему он был свободен и шутлив с Верою Павловною, по-прежнему было видно, что ему приятно в ее обществе; только стали встречаться разные помехи ему бывать у Лопуховых так часто, как прежде, оставаться у них целый вечер, как прежде, да как-то выходило, что чаще прежнего Лопухов хватал его за руку, а то и за лацкан сюртука со словами: «нет, дружище, ты от этого спора не уйдешь так вот сейчас» – так что все бо́льшую и бо́льшую долю времени, проводимого у Лопуховых, Кирсанову приводилось просиживать у дивана приятеля. И все это устроивалось так постепенно, что вовсе и незаметно было, как развивалась перемена. Помехи являлись, и Кирсанов не только не выставлял их, а, напротив, жалел (да и то лишь иногда, жалеть часто не годилось бы), что встретилась такая помеха; помехи являлись всё такие натуральные, неизбежные, что частенько сами Лопуховы гнали его от себя, напоминая, что он забыл обещание ныне быть дома, потому что у него хотели быть такой-то и такой-то из знакомых, от которых ему не удалось отвязаться… Или он забыл, что, если ныне он не будет у такого-то, этот такой-то оскорбится; или он забыл, что у него к завтрашнему утру остается работы часа на четыре, по крайней мере: что ж он, хочет не спать нынешнюю ночь? – ведь уж 10 часов, нечего ему балагурить, пора ему отправляться за работу. Кирсанов даже не всегда слушался этих напоминаний: не поедет он к этому знакомому, пусть сердится этот господин; или: работа не уйдет, время еще есть, а он досидит вечер здесь. А помехи все накоплялись: и ученые занятия все неотступнее отнимали у Кирсанова вечер за вечером – провалились бы они, по его мнению (изредка выражаемому вскользь), эти ученые занятия, – и знакомые тоже навязывались на него все больше, и как только они навязываются (это выражается тоже изредка, вскользь) – удивительно, как они навязываются! Это ему так кажется, а Лопуховым очень видно, почему так: он входит в известность, вот и является все больше и больше людей, которым он нужен; и работою нельзя ему пренебрегать, напрасно он начинает полениваться, – да чего, он вовсе изленился в предыдущие месяцы, вот ему и скучно приниматься за нее: – «А надобно, брат Александр». – «Пора, Александр Матвеич!»
Труден был маневр, на целые недели надобно было растянуть этот поворот налево кругом и повертываться так медленно, так ровно, как часовая стрелка: смотрите на нее, как хотите, внимательно, не увидите, что она поворачивается, а она себе исподтишка делает свое дело, идет в сторону от прежнего своего положения. Зато и какое же наслаждение было Кирсанову, как теоретику, любоваться своею ловкостью на практике. Эгоисты и материалисты, ведь они все делают собственно только в удовольствие себе. Да, и Кирсанов мог, положа руку на сердце, сказать, что он делает свою штуку в удовольствие себе: он радовался на свое искусство и молодечество.
Так прошел месяц, может быть несколько и побольше, и если бы кто сосчитал, тот нашел бы, что в этот месяц ни на волос не уменьшилась его короткость с Лопуховыми, но вчетверо уменьшилось время, которое проводит он у них, а в этом времени наполовину уменьшилась пропорция времени, которое проводит он с Верою Павловною. Еще какой-нибудь месяц, и при всей неизменности дружбы друзья будут мало видеться – и дело будет в шляпе.
Зорки глаза у Лопухова – неужели он ничего не замечает?
– Нет, ничего.
А Вера Павловна? И Вера Павловна ничего не замечает. И в себе ничего не замечает? И в себе ничего не замечает Вера Павловна; только снится Вере Павловне сон.







