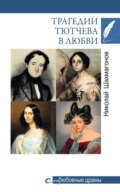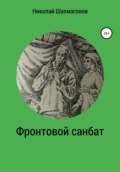Николай Фёдорович Шахмагонов
Неподвижно лишь солнце любви
И всё же мы не в праве строго судить, да и вообще судить своих героев за то, что совершили они в тот знойный летний день, отдавшись столь же знойным взаимным чувствам. Лучше проследим их дальнейший путь, который суждено им пройти в годы падений и взлётов России, в годы её тяжелого марша через болота и топи демократии ельцинизма. Ведь даже в век богоборческий не все поступки можно признать богоборческими, ибо жизнь продолжалась, и у этой жизни были всё-таки свои законы, очевидно не зря попускаемые Богом. Жизнь продолжалась и тогда, когда Русская Земля падала в тяжелые смуты, жизнь продолжалась, потому что люди продолжали любить, продолжали соединять свои жизни и от этих соединений рождались новые люди, новые поколения, чтобы в свою очередь продолжать жизнь на Земле. Дети же рождались не без воли Бога тайной, ибо ничто не может родиться на земле без Божьей на то воли. Ведь только Всемогущий Бог может вдохнуть бессмертную душу в ту крохотную капельку новой жизни, которая образуется от слияния мужского и женского начал, именно благодаря соединению этих начал, пусть даже соединения и не благословлённого по законам церкви, но создающего новую жизнь, которая не может возникнуть без Божьего благоволения.
А между тем волшебные мгновения, проведённые нашими героями вместе, складывались в секунды, секунды соединялись в минуты, а они всё ещё не могли оторваться друг от друга и оставались в прежнем положении, упиваясь близостью и не имея ни желания, ни сил ни на что другое, кроме нежных и трепетных ласок. Её роскошные волосы рассыпались по подушке, завитки их оттеняли золотистый загар на плечах, её глаза покрыла туманной поволокой сладкая истома. Они испытывали ощущение безраздельного, полного счастья и это ощущение не проходило, рождая всё новые всплески чувств. Они так и задремали, истомлённые этими ласками, а проснулись, когда за окошком уже сгустились сумерки.
– Мы, наверное, ужин уже прозевали, – прошептала Ирина.
Теремрин посмотрел на часы и сказал:
– Да уж. Почти час, как он закончился.
Ирина выбралась из его объятий, села на кровати и потянулась за халатиком.
– Схожу в душ, – пояснила она.
Теремрин остановил её руку и попросил:
– Иди так. Не надо скрывать грубой материей то, что столь прекрасно, и ласкает взгляд.
Она слегка покраснела, смутилась и хотела возразить, но потом вдруг, передумав, решительно встала и гордо пошла к выводу из комнаты, провожаемая его восхищённым взглядом. Золотистый отлив её стройного тела особенно завораживал и притягивал взгляд в сумеречном свете.
Теремрину совсем не хотелось вставать, но он всё-таки встал, подумав, что совсем неплохо было бы прогуляться перед сном. Минут через пятнадцать они уже были на березовой аллейке, ведущей к проходной. Теремрин что-то рассказывал ей о доме отдыха, о том, как любит не только проводить здесь свободное время, но и работать, а она слушала невнимательно, потому что ждала другого разговора, других слов, более для неё сейчас важных. Она ждала слов, которые, по её мнению, должны были последовать после того, что произошло между ними. Сама же не считала возможным коснуться этой темы, потому что уж если и нужно было касаться, то значительно раньше, быть может, ещё в Пятигорске, перед самым своим отъездом.
Но он упорно обходил стороной тему их взаимоотношений. Иногда он замолкал и становился задумчивым. В эти минуты Ирина замирала в ожидании, полагая, что он хочет что-то сказать или о чём-то спросить. Но он не спрашивал, хотя её догадка была отчасти верной: его действительно волновал один вопрос, но не тот, о котором думала Ирина. Его волновал вопрос, на который он не смог ответить достаточно ясно, несмотря на свой опыт. Читатель, вероятно, догадывается, каков этот вопрос. Но Теремрин не мог задать его в виду деликатности самого вопроса. Не будем и мы касаться его до времени, когда он сам возникнет по ходу действий и когда сначала Ирина, а позже и Теремрин, будут искать ответ на него в виду его важности для них обоих.
Он продолжал говорить о доме отдыха, о каких-то забавных случаях, которые происходили здесь. Она же думала совершенно об ином и вдруг вспомнила стихотворение, которое мама положила ей на стол перед самым отъездом. Это было своеобразным предупреждением, но Ирина, хоть и запомнила его наизусть, всё же с собою не соотнесла. И вот теперь она неожиданно даже для себя, предложила:
– Я хочу кое-что прочитать тебе. Ты не возражаешь?
– Конечно, нет, – отозвался Теремрин, прервав свой монолог. – Мне будет приятно послушать.
И она стала читать, хоть и негромко, но ярко, с выражением:
Как только разжались объятья,
Девчонка вскочила с травы,
Смущённо поправила платье
И стала под сенью листвы.
Чуть брезжил утренний свет,
Девчонка губу закусила.
Потом еле слышно спросила:
«Ты муж мне теперь или нет?»
Весь лес в напряжении ждал,
Застыли ромашки и мяты,
Но парень в ответ промолчал,
И только вздыхал виновато.
Видать не поверил сейчас
Он чистым лучам её глаз.
Ну, чем ей, наивной, помочь
В такую вот горькую ночь?
Эх, знать бы ей, чуять душой,
Что в гордости, может, и сила,
Что строгость ещё ни одной
Девчонке не повредила.
И, может, всё вышло не так бы,
Случись эта ночь после свадьбы!
– Чьё это стихотворение? – с нарочитым интересом и некоторой нервозностью спросил Теремрин, пытаясь, однако, скрыть, что не мог не понять, почему Ирина прочла его.
– Автор Морозов, – пояснила Ирина. – Стихотворение называется «Ночь».
– Морозов, Морозов, – повторил Теремрин. – Нет, не слышал о таком.
– Мама мне журнал на стол положила, – пояснила Ирина. – Перед самым отъездом положила. Там было это стихотворение.
– Да, много сейчас появилось хороших поэтов, – сказал Теремрин, стремясь уйти от темы стихотворения и перевести весь разговор на поэзию в целом. – У меня вот ещё с училища хранится целая тетрадка со стихами. Не со своими, а именно с теми, что когда-то очень взволновали. Потом и сам стал писать. Это уже на выпускном курсе. Кстати, стихи-то и привели меня, в конце концов, к прозе.
Они прогулялись по берёзовой аллее, затем обошли примыкающие к ней аллейки, уже более узкие. Потом направились по дороге, огибающей жилые корпуса. Вдруг, совершенно отчетливо и ясно донеслась танцевальная музыка.
– Откуда это? – с интересом спросила Ирина.
– Из зала танцевального, – пояснил Теремрин. – Танцы там сейчас в разгаре.
– Хорошая музыка, – сказала Ирина. – Как в Пятигорске.
Теремрин с удивлением посмотрел на неё. В Пятигорске Ирина обычно избегала танцев, и ему никак не удавалось вытащить её хотя бы на один вечер. Он решил, что Ирина просто не любит танцевать, потому что не знал истиной причины. Ирине же неловко было идти с Теремриным в тот зал, где танцевало столько людей, видевших её с Синеусовым, неловко было танцевать с ним там, где она танцевала с другим. Теперь же ей очень захотелось потанцевать с Теремриным. На самом деле она любила танцы.
– Хочешь? – спросил Теремрин, кивнув на огромные окна, из которых лилась музыка.
– Очень хочу.
–Тогда идём, а то ведь мы с тобой так ни разу и не танцевали.
Ирина решила, наконец, что пора выбросить из головы всякие мысли о том, что будет дальше. Пусть будет то, что будет. В конце концов, лето ещё не окончилось, и надо было отдыхать перед трудовым годом, не терзая себя переживаниями. Они вошли в танцевальный зал, когда только что объявили дамский танец, и ансамбль заиграл вальс.
– Значит, приглашают дамы, – с лёгкой игривостью сказала Ирина. – А вот сейчас возьму, да кого-нибудь приглашу.
– Пожалуйста, – поддержал шутку Теремрин. – Только тогда у меня есть одна просьба.
– Какая же? – поинтересовалась Ирина.
– Давай подойдём вон к той колонне.
– Зачем?
– Там постою. На меня одна особа посматривает. Видишь? Может, пригласит, чтоб не тосковать мне в гордом одиночестве, пока ты танцуешь.
– Ну, уж нет, – весело возразила Ирина. – Ты теперь только мой! – И, внимательно посмотрев ему в глаза, положила на плечо свою руку, заявив: – Я приглашаю вас!
Они сделали круг, и Теремрин вдруг начал неспешно декламировать:
Вечереет. Прохладою дышит река,
В её водах закат догорает,
И лежит на плече моём ваша рука,
Белый вальс, словно волны, качает.
– А это чьё стихотворение? – поинтересовалась Ирина, воспользовавшись небольшой паузой. – Кто автор?
– Никто. То есть, конечно, автор есть, и он перед вами.
– Тогда слушаю. Что дальше?
– Ещё не сочинил. Подожди, – сказал Теремрин. – Вот, пожалуй, так:
Белый вальс нас кружит, белый вальс ворожит,
И над нами аккорды витают,
А мне новую хочется песню сложить,
Вам с восторгом её посвящаю.
В этой песне скажу я о чувстве своём
И о том, что давно я ваш пленник,
В том, что в сердце навеки вошли вы моё,
Признаюсь я без всяких сомнений.
– Это ты сочинил сейчас?! – удивлённо воскликнула Ирина. – Как это возможно? Нет, ты, наверное, шутишь. Признайся. Ты это написал раньше. Кому, если не секрет?
Она немножко запыхалась в танце. А потому говорила отрывисто, отделяя фразу от фразы. Он же продолжал ловко вести её по залу, избегая столкновений с другими парами, кружащимися бессистемно – кто во что горазд.
– Я пишу это сейчас, – возразил он.
– А почему тогда обращение на «вы»?
– Это же стихотворение. Сочиняя любое художественное произведение, надо всегда стремиться подняться над фактом, создать какой-то запоминающийся образ человека или события.
– Интересно, – проговорила Ирина.
– Вот. Слушай:
Я бы эти мгновения остановил,
И в руке удержал вашу руку,
Чтоб прощальный аккорд в танце нам возвестил
Не прощание и не разлуку.
Он помолчал и сказал, словно размышляя:
– Вот так. Или пока так. Я действительно придумал это лишь сейчас. Вот только бы не забыть и в номере сразу записать, когда вернёмся.
– Я помогу запомнить. Повтори.
Вальс закончился, и они присели в сторонке. Теремрин повторил стихотворение и сказал:
– Такое пишется не вдруг, не просто так, а когда поэт переполнен чувствами. А переполняемый чувствами он говорит стихами. Я ведь, наверное, хоть немножечко, но поэт.
– А это правда? – спросила Ирина.
– То, что поэт?
– Нет. Это я и сама знаю. Правда ли то, что я вошла в твоё сердце?
– Если это вылилось в стихотворные строки, то, конечно, правда вдвойне, – уверенно ответил он.
В эти минуты Теремрину не хотелось думать ни о тех преградах, что ожидали его на пути к этому самому «навеки», ни о том, что промелькнёт неделька отдыха, и придётся принимать какое-то решение. Какое? Он не знал ещё наверняка, а потому убегал от мыслей об этом, даже когда Ирина пыталась настроить его на них. Ведь если заставить себя не думать о той или иной проблеме, то проблема исчезнет сама собой, по крайней мере, на какое-то время. Не каждому дана такая способность. Но Теремрин умел это, ибо человеку, серьёзно занимающемуся литературным творчеством, требующим порой не только отрешения от всего, но и самоотречения, иначе просто нельзя.
Теремрин избегал разговоров с Ириной о сути их отношений и о перспективах этих отношений главным образом потому, что не успел ещё окончательно разобраться в самом себе и всё решить для самого себя. То, что он пригласил Ирину, то, что пошёл с нею на близость, хотя и предполагал, что это у неё впервые, уже свидетельствовало о его решимости соединить с нею свою жизнь. Но от решимости до действий, порой, дистанция огромного масштаба. Он был благодарен ей за то, что она так и не спросила о его семейном положении, за то, что доверилась ему полностью. Мог ли он теперь обмануть её доверие? Не имел права. Но пока не знал, как всё это сделать.
Он ещё накануне как бы загадал, если окажется, что он у неё первый, то всё решится само собой. Но теперь решение, словно бы откладывалось, поскольку полной уверенности в том, что всё, что случилось сегодня, случилось у неё впервые, не было. Он не смог бы с уверенностью решить так это или иначе, даже опираясь на свой опыт. Хотя какой уж там опыт? Девушек он никогда не трогал, кроме Кати, жениться на которой помешали независящие от него обстоятельства. Ну и той, с которой соединил свою жизнь.
Он, конечно, мог задать вопрос, волнующий его, и, наверняка, получил бы искренний и правдивый ответ. Но такой вопрос он задавать не хотел, ибо вообще считал, что мужчине не следует ничего знать о прошлых увлечениях женщины, поскольку эти знания непременно станут непреодолимой преградой на пути к безоблачным чувствам и отношениям.
Теремрин давно вышел из юношеского возраста, когда чистота девушки являлась безусловной необходимостью для построения семьи. Уточним, счастливой, прочной семьи. В зрелом возрасте законы в этом отношении мягче, поскольку судьба может свести и с уже побывавшей замужем, разведённой женщиной, а то и с замужней. В таких случаях Теремрин не только не интересовался деталями прошлого, а, напротив, пресекал всякие попытки своих возлюбленных что-то рассказать о былых встречах и увлечениях. Он пояснял, что никогда и никому неведомо, во что могут вылиться их отношения, а коли так, для чего же снабжать друг друга информацией, мягко говоря, не слишком приятной.
Но в данном случае пред ним было юное создание, причём, по его мнению, неискушённое в делах любви. Замужем Ирина не была, а коли так, то и не должна была иметь с кем-то близких отношений. Во всяком случае, он считал именно так. Правда, здесь волей неволей возникало противоречие: а как быть с тем, что произошло у Ирины с ним самим? Но об этом мужчины обычно не задумываются, считая себя исключением из правил. Точнее, то, что допустимо с данным субъектом, то есть с ним самим, недопустимо ни с кем другим.
Впрочем, задумываться над всеми этими тонкостями у Теремрина в тот вечер времени особенно и не было. Что-то такое, порой не совсем приятное, мелькало в голове, но он прогонял подобные мысли. Было хорошо, и слава Богу. Он предпочёл плыть по течению, особенно не задумываясь, куда его вынесет река этой новой и яркой его любви.
Они протанцевали все танцы до самого последнего, потом снова вышли на улицу, чтобы прогуляться перед сном. Под воздействием прекрасной музыки, замечательных танцев, ибо Теремрин был на редкость хорошим партнёром, постепенно и Ирине расхотелось касаться щекотливых тем. И она, подобно Теремрину, решила: будь что будет. Уже на улице сказала ему доверительно-мягким тоном:
– Я не знаю, как ты смотришь на наши отношения, и какие у тебя в отношении меня планы. Хочу, чтобы ты был спокоен и рассудителен в принятии любого решения.
Она замолчала. Молчал и он, обратившись в слух и стараясь предугадать, что она ещё скажет и куда клонит. Ирина же коснулась этой темы намеренно. Не случись с нею того, что случилось с Синеусовым, может, она и не стала бы говорить то, что сказала сейчас, а, может, и вовсе не возникло нужды в подобном разговоре. Мало того, быть может, и самой этой поездки не было.
– Ты не думай, – продолжала она, – что, если у нас вдруг что-то не сложится, будто ты разбил моё сердце. Я давно мечтала о настоящей любви, мечтала, как Асоль о принце. Но принц всё не являлся.
– Положим, и я не принц, – с усмешкой сказал Теремрин. – Или на безрыбье и рак – рыба?
– Не надо так говорит. Ничего подобного я не имела в виду. Я вовсе не собираюсь тебя сравнивать с принцем из «Алых парусов». Время иное и возможности иные. Но чувства, которые испытала к тебе в Пятигорске и которые испытываю сейчас, поверь, нисколько не меньше, чем у той девушки, дождавшейся своего принца. И я могу сказать, что тоже дождалась своего принца. Моя жизнь ведь очень обыкновенна и проста. Школа, институт, теперь вот снова школа, только в ином качества. То была ученицей, а теперь вернулась туда же учительницей. В школе коллектив в основном женский. Ну а к случайным знакомствам я всегда относилась скептически.
Видимо, она ждала с его стороны какого-то вопроса. Ну, хотя бы об институте, о студенческой жизни, о студенческих компаниях, но он ни о чём этом не спросил. Они вышли на пляж. В разных его уголках сидели парочки. Кто-то плескался в полумраке, громко восхищаясь водой, которая, по возгласам, была теплой, как парное молоко.
– Это что за строение? – поинтересовалась Ирина, указав на башенку, отдалённо напоминающую рубку корабля.
– Лодочная станция. Завтра, если хочешь, можем покататься на лодке.
– Можно, – ответила Ирина, – давненько не каталась на лодке.
– А нам, пожалуй, пора уже домой. Корпус-то вот-вот закроется.
– И здесь, как в Пятигорске? – спросила Ирина.
– Порядки везде одинаковые.
Вернувшись в номер, они ещё долго стояли в лоджии, обнявшись, и любовались подсвеченной фонарями берёзовой аллеей. Мошки вились над фонарями. По аллее проходили парочки, но уже не прогулочным, а торопливым шагом, поскольку спешили в корпус. Где-то вдалеке, в пансионате «Клязьма» или даже в «Берёзках», которые были чуть подальше, играла музыка, а вокруг всё постепенно затихало и замирало, словно готовясь ко сну. Ирина положила ему на плечо свою голову, и он трепетно перебирал пальцами её золотистые завитки волос.
А вечер был удивительным и неповторимым, и ещё более удивительной и неповторимой обещала быть ночь.
Отдых в «Подмосковье» был безмятежным и прекрасным. О Синеусове Ирина почти и не вспоминала. Всё, что происходило с ней и в Пятигорске, и в Кисловодске, и теперь здесь, в доме отдыха, казалось ей сказкой, поскольку прежде судьба не баловала её. Отец оставил семью давно, и, кроме незначительных элементов, никакой помощи от него не было. А ведь девочку, вырастающую в девушку и со временем превращающуюся в женщину, должен воспитывать отец, даже в большей степени, нежели мать. Ведь это воспитание должно основываться на строгом благочестии. Важен и своеобразный личный пример. Недаром многие девушки выбирают себе в мужья юношей, которые чем-то походят на их отцов. Ведь если отец настоящий, достойный уважения, девушке есть с кем сравнивать своего избранника. Строгость отца ограждает от ошибок, помогает своевременно разгадать коварных ловеласов и предостеречь от общения с ними.
Ирину воспитывала мать, воспитывала одна, а это не так-то и просто, особенно если учесть загруженность учительницы и невысокое материальное обеспечение этого воспитания. Мать привила Ирине скромность, ответственное отношение к порученному делу, уважение к нелегкому, но считавшемуся в те годы почётным и благородным труду учителя. Круг общения был таков, что в него неоткуда было попасть претенденту на руку и сердце. Ирина была красива, но красота привлекала, порой, не того, кого надо, привлекала тех, кто хотел просто позабавиться с эффектной девушкой. Особенно это было заметно во время учёбы в Москве, когда за Ириной пытались ухаживать сокурсники с вполне определёнными целями. Историко-архивный институт был весьма престижным учебным заведением, и учились там студенты из семей, занимавших в обществе солидные места. Вряд ли кто-то из пытавшихся ухаживать за ней, рассматривал её в качестве возможной спутницы жизни. Ну а после института она влилась в сугубо женский коллектив. И вдруг такая встреча в Пятигорске! Справедливости ради надо признать, что Синеусов был для неё, провинциальной девушки, вполне достойным, даже завидным женихом. Ну, а уж Теремрин и подавно. Впрочем, Ирина специально не искала себе женихов. И Синеусов, а потом и Теремрин появились на её пути случайно. Оба они, а особенно Теремрин, выгодно отличались от всех её прежних знакомых, которые вертелись в поле её зрения, не трогая сердца.
Тому, как относился к Ирине Теремрин, могла позавидовать любая из её подруг. Да, что там подруги-провинциалки!? Этому могли позавидовать и многие её прежние московские сокурсницы. Одно волновало, как мы уже видели: имели ли эти отношения серьёзную перспективу. Елена, соседка её по номеру в санатории, как-то сказала, что для Теремрина самым главным в жизни было всегда лишь творчество. Всё остальное являлось приложением к литературной деятельности. Но Ирина тогда подумала, что по отношению к ней всё будет иначе.
Глава пятая
Для Александра Синеусова те дни были не самыми лёгкими и удачными в жизни. Да, он справился с заданием главного редактора, да, очерк о генерале Стрихнине был напечатан и понравился тому, кто заказывал его. Но радости этот мнимый успех не доставил, потому что успехом его публикацию считало только начальство.
Конечно, его очерк вряд ли стал определяющим в судьбе генерала Стрихнина. Но, если бы он, Синеусов, написал всю правду о том, что происходило в дивизии, если бы сам не устранился от этой правды и не закрыл на неё глаза, увлечённый сиюминутными удовольствиями, то, вполне возможно, сыграл бы благую роль, помешав выдвижению выскочки и бездарности. А рассказать правду в то время уже было можно, если и не в военных, то, по крайней мере, в некоторых гражданских изданиях.
Было и ещё одно обстоятельство, которое волновало Синеусова – реакция на его очерк со стороны журналистской братии. Его поступок не нашёл одобрения. Его статьи, очерки, заметки и прочие материалы стали дружно возвращать на доработку с самыми несуразными замечаниями. Над ним словно издевались.
Между тем, главный редактор обещал ему дать недельку на подготовку материалов для журнала, и Синеусов собрался провести её вместе с детьми в Доме отдыха «Подмосковье». Уже и путёвку взял, причём опять же не без помощи главного, который и звонок организовал, чтобы устроили в хороший номер. Но в последнюю минуту Синеусов понял, что этот его рабочий отдых только масла в огонь подольёт, а потому отправил отдыхать с детьми свою маму.
А тут ещё главный редактор поторопился с выдвижением его на должность уже не ответственного секретаря, а своего заместителя, ускорив увольнение полковника, который вполне бы ещё мог послужить несколько лет. Обстановка в коллективе обострилась ещё более. И, хотя теперь никто ничего не отваживался сказать ему в глаза, поскольку дело о назначении решилось, и оставалось лишь дождаться приказа, изменившееся к себе отношение он чувствовал постоянно.
В верхах происходило что-то непонятное. Кадровые перестановки стали делом привычным. Блатные стремились в группы войск, поскольку там ожидалась раздача лакомых кусков, причём немалых. К участию в дележе пирога допускались «достойные», разумеется, в первую очередь те, кто готов был поделиться с благодетелями, туда их направлявшими. Здоровые силы, которых в армии всегда большинство, пытались помешать всем этим безобразиям, но у здоровых сил в смутные времена возможностей всегда меньше. Смутные времена выдвигают на первые роли деятелей, которых Иван Лукьянович Солоневич метко окрестил ублюдками и питекантропами.
Министр обороны ринулся омолаживать кадры, увольняя без разбора, во-первых, всех, кто старше по возрасту его самого, во-вторых, тех, кто, по его мнению, староват для службы. Изгонялись опытные и, что главное, честные и порядочные люди – люди, сильные волей, которые способны были помешать насильственному развалу Державы и армии. Взлетали на высокие должности выскочки, бездари и хапуги, которые ничему помешать не могли, да и вряд ли бы захотели. Не все и не сразу поняли, что шла подготовка к развалу СССР и к уничтожению боевой мощи Советской Армии. Но, даже на фоне этих стремительных выдвижений, назначение Синеусова казалось слишком странным. С должности корреспондента, минуя должность начальника отдела, сразу в заместители главного редактора! Такого прежде не бывало. И вот он, Александр Синеусов, привыкший относить себя к людям порядочным, людям честным и добросовестным, ощутил с ужасом, что оказался по одну сторону баррикад со всякого рода негодяями. О высоком его назначении и о направлении представления на досрочное присвоение очередного воинского звания быстро стало известно не только в журнале, где он служил, но и в других изданиях.
А вскоре последовало ещё одно поручение, очень похожее на первое, при выполнении которого тоже нельзя было не покривить душой. Кто-то мог сказать о нём с завистью, что попал, мол, парень в струю, но Синеусов оценил это иначе: не в струю он попал, а в капкан. И выдвижение, и досрочное присвоение воинского звания надо было теперь отрабатывать. Отказаться же от свалившихся на голову благ в себе сил не нашёл. Он даже не пытался себя оправдывать. Какие уж тут оправдания? О поездке в дивизию Стрихнина вспоминал, как о чём-то весьма отвратительном и мерзком, и особенно стыдно было перед другом и однокашником, которого там встретил, перед Андреем Световитовым.
Единственной отдушиной в эти дни было то, что на выходные он собирался в дом отдыха к детям, которые уже находились там со своей бабушкой, а его мамой. Об Ирине вспоминал редко, но не потому, что забыл её, а потому что просто не до того было. Он твёрдо решил найти её, но пока не представлял себе, каким образом достать её адрес. Стал подумывать о том, чтобы попроситься в командировку в город, где жила она, и попробовать отыскать её там, на месте, даже если для того придётся обойти все школы. Он даже представить себе не мог, что Ирина сейчас не за тридевять земель, а рядом, в том самом доме отдыха, где уже находятся его дети и куда сам он собирается на выходные.
Между тем, в пятницу Теремрину надлежало явиться на службу. Так уж получилось, что отпуск заканчивался именно в четверг. Не дотянул до выходных одного дня. Впрочем, Теремрин полагал, что это не так уж и страшно. Ведь уже вечером в пятницу он мог вернуться в дом отдыха, где у них с Ириной оставались ещё суббота и воскресенье.
В институте всё было по-прежнему. Да и понятно: лето, отпуска, затишье. Но буквально с порога Теремрина огорчили сообщением, что он назначен дежурным по управлению с субботы на воскресенье, то есть уже в субботу утром ему предстояло заступить на эту вахту. Правда, поразмыслив, он успокоил себя тем, что теряет не так уж и много. Путёвка-то было по понедельник включительно, а покинуть дом отдыха пришлось бы в понедельник рано утром, а то и в воскресенье вечером. Надо же было ещё подумать и о том, как посадить Ирину на поезд. В понедельник он вряд ли смог бы удрать со службы, а потому, вероятнее всего, пришлось бы отправлять её в воскресенье, поскольку негде было её оставить на целый день. Теперь же получалось так, что можно было провести в доме отдыха и понедельник, поскольку за дежурство полагался отгул, который те, кому выпадало дежурить с субботы на воскресенье, обычно брали сразу, в понедельник.
Когда Теремрин вернулся после доклада о прибытии из отпуска в свой кабинет, зазвонил телефон.
– Простите, я говорю с Дмитрием Николаевичем? – спросили на другом конце провода.
– Да, полковник Теремрин у телефона.
– Наконец-то дозвонился, – радостным голосом проговорил незнакомый собеседник. – С возвращением из отпуска.
– С кем имею честь?
– Вы меня не знаете, а потому моё имя вам ничего не скажет. Зато я вас знаю по вашим публикациям, которые очень высоко ценю.
– Тем не менее, я хотел бы всё-таки знать, с кем говорю, – сказал Теремрин.
– Ну, что ж, это оправдано. Беспокоит вас Афанасий Тимофеевич Ивлев.
– Ивлев? – протянул Теремрин.
– Не старайтесь вспомнить. Повторяю, вы меня не знаете.
– Тогда чем могу служить? – спросил Теремрин, желая поскорее перейти к делу.
– Скорее наоборот. Это я вам могу сослужить добрую службу. Вы, судя по недавним вашим публикациям, заинтересовались судьбой Царской Династии в России, доказали, к примеру, что Павел Первый – сын камергера графа Сергея Васильевича Салтыкова, а не Петра Третьего.
– Положим, доказал это не я, – возразил Теремрин. – Императрица Екатерина Великая упомянула об этом в письме к Потёмкину и в своих записках.
– Да, да, конечно. И всё же написали об этом вы. Вот и хочу передать вам некоторые, весьма и весьма занимательные материалы, которые касаются целого ряда пятен в нашей истории, – сказал Ивлев.
Теремрин продолжал разговор лишь из вежливости, поскольку предложения, подобные этому, обычно оказывались пустой болтовней.
– Вы что-нибудь слышали о старце Феодоре Козьмиче? – поинтересовался собеседник.
– Это о старце, под именем которого, якобы, скрывался после мнимой своей смерти Император Александр Первый? – уже с некоторым интересом переспросил Теремрин.
– Да, о том самом, но без «якобы». И не скрывался, а вершил подвиг поста и молитвы, – уточнил Ивлев и тут же озадачил: – А вы знаете, кто скрывался под именем самого Александра Первого?
– Это что-то из области фантастики, – сказал Теремрин. – Вы серьёзно говорите?
– Безусловно, – подтвердил собеседник и предложил: – Если то, что услышали от меня, хоть немного вас заинтересовало, скажите, как мне можно повидаться с вами, чтобы подробно рассказать эту, а, может быть, и некоторые другие истории. Ну и кое-какие документы передать.
Теремрин сначала хотел отказаться, но потом вспомнил, что ему предстоит целый субботний день торчать здесь, на дежурстве, и подумал: «А почему бы не пригласить этого странного Ивлева сюда, в институт? Будет время поговорить с ними обстоятельно, если, конечно, его информация заслуживает того».
Сказано – сделано. Разъяснил, как добраться до института, назначил время и завершил разговор. Он не слишком верил, что узнает что-либо серьёзное, но, с другой стороны, времени свободного на субботнем дежурстве сколько хочешь.
Едва он положил трубку, как телефон зазвонил снова. Из секретариата сообщили, что начальник института вызывает его, Теремрина, к себе в кабинет к 16.00. Об этом же через несколько минут сообщил ему и секретарь парткома полковник Наумкин, причём говорил как никогда строго и сухо.
Теремрин попытался угадать, чему посвящён вызов и в чём он мог проштрафиться, но в голову так ничего и не пришло.
В назначенный час он вошёл в приёмную и попросил секретаршу доложить о себе. Та сняла трубку, сообщила о его прибытии, выслушала ответ и, обратившись к Теремрину, сказала:
– Просили подождать. Вас вызовут.
Но ждать пришлось достаточно долго. Наконец, в приёмную зашёл секретарь парткома института и спросил, кивнув на дверь начальника:
– Ещё не были там?
– Нет. Жду.
– Думаю, что сейчас пригласит. Меня вот зачем-то тоже позвал.
Через некоторое время из кабинета вышел посетитель и, наконец, Теремрин предстал перед генералом с гремевшей тогда в логове демократов хищной и звонкой фамилией. Разговор был весьма резок и груб. Отбросив слова и выражения, рекламируемые его хозяевами, генерал потребовал объяснить, почему Теремрин дал хвалебный, как он выразился, отзыв на рукопись Анатолия Рыбина «Рядом со Сталиным»?
Теремрин попытался объяснить, что получил эту рукопись на рецензию перед самым отпуском и что высказал, как и требовалось, своё мнение по поводу её содержания.