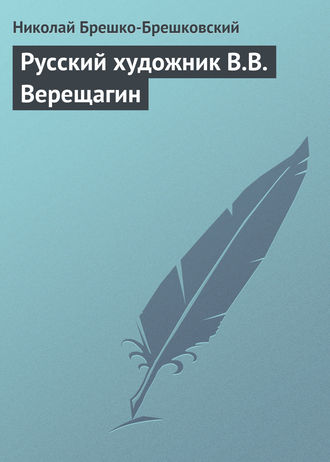
Николай Брешко-Брешковский
Русский художник В.В. Верещагин
Очутился в мастерской Жерома и Верещагин. Его окружили и попросили раздеться. Василий Васильевич побледнел. «Мэтры» настаивали. Верещагин отступил на шаг, вынул из кармана револьвер и спокойно, ледяным тоном заметил:
– Первому, кто меня коснется – размозжу голову.
Вся студия мгновенно затихла. У видывавших виды «мэтров» вдруг опустились руки…
Верещагина оставили в покое.
Чрезвычайно характерный мазок для всего величавого верещагинского портрета. В одной «истории с револьвером» сказалась гордая, самолюбивая натура громадной силы воли и неустрашимости…
Жером ставил Верещагину на некоторый минус любовь к рекламе. Но, право, покойный художник не был уж таким ярым рекламистом, как почему-то сложилось мнение и нас, и за границей.
* * *
Только разве на долю картин Куинджи выпал такой бурный неслыханный успех, каким была встречена туркестанская коллекция Верещагина. Да и не только туркестанская.
Публика, словно зачарованная, смотрела феерические полотна из жизни далекой таинственной Индии. Восточная обстановка, странные, невиданные предметы, оружие, – усугубляли впечатление, делая ого еще напряженнее… Публику гипнотизировала эта роскошная, чудовищная природа картин Верещагина, эти сверкающие драгоценными камнями раджи и эти вереницы слонов, что шутя дробили головы осужденных своими тяжелыми ногами-бревнами…
Колористом, поэтом красок, Верещагин никогда не был. Эта чарующая поэзия была чужда его, скорей рассудочной, чем художественной натуре. Но, все же, как очень талантливый и добросовестный мастер, он умел передать и жгучее солнце, и яркий свет знойных тропиков, и холодный воздух дальнего севера.
Наблюдая мимолетный эффект северного сияния, чтобы сейчас же, пока не ослабело зрительное впечатление, зафиксировать его на холсте, Верещагин на сильном холоде чуть не замерз, деревенели пальцы, но все же добивался желаемого. Для этого железного человека не было препятствий!
… Он сидит на берегу Дуная и набрасывает этюд разбиваемых в щепы турецкими ядрами лодок, переполненных тонущими русскими солдатами. Кругом – кромешный ад! Шлепаются и взрывают землю гранаты, свистят пули. А Верещагин – хоть бы что! Не до того ему. Он весь ушел в стремление поймать эффект солнечных лучей, преломляемых в затуманенной плывущими лодками зеркальной поверхности широкого Дуная. Шалая турецкая пуля разбивает вдребезги палитру. Верещагин преспокойно достает новую и, как ни в чем ни бывало, продолжает писать…
Более рискованные сеансы даже и во сне не пригрезятся!
Точно также под пулями текинцев, когда не хватало обозных солдат, Верещагин, перевозил фургоны с нашими ранеными. В русско-турецкую войну Василию Васильевичу, чтоб не быть убитым наверняка, пришлось ползти на четвереньках по одной из шипкинских тропинок. Тропинка была усеяна разложившимися трупами, и Верещагин в течение двух часов месил руками и ногами эти зловонные, мягкие, кишащие червями трупы…
* * *
И после всего этого пережитого, после всех этих зрелищ, мог ли он иначе живописать войну?! «Все с натуры и ни одного мазка от себя» – было ого девизом. Где он только ни писал своих этюдов! На длинной веревке его спускали в легендарные азиатские «клоповники», где гниют заживо погребенные люди… И, задыхаясь в ужасной атмосфере, он изучал, как узенькая, почти вертикальная, полоса света «играет» на липком и топком дне клоповника, на грудах черепов, на изуродованных проказою и паршами головах обезумевших, обратившихся в жалких, скотоподобных идиотов, узников этих темниц, придумать которые могла только жестокая фантазия азиата…
Мудрено ли, после этого, что когда смотришь проклятые «документы» Верещагина, вроде клоповника, что в Третьяковке, – по коже начинают бегать мурашки…







