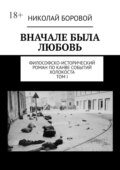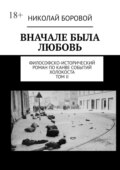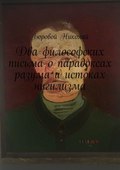Николай Боровой
О мир! Очерки бывалого путешественника, не чуждые мыслей и юмора
Сакральность христианских храмов во все времена связана не только с их функциональным, то есть прямым религиозно-культовым статусом, а в еще большей мере – с их целостным архитектурно-художественным обликом и создавшей таковой концепцией структурных, пространственных и декоративных форм, это означает стиль и канон, визуально воплощает эпохальное понимание и ощущение сакральности и ее языка. Каким бы ни был стиль религиозно-культовых сооружений, он воплощает собой конкретный, найденный той или иной эпохой язык для сакральности и религиозного чувства и мироощущения в целом. Средневековые византийские церкви в Афинах или романские храмы восхищают, а не разочаровывают суровой простотой их форм, связанной с ограниченностью технических возможностей, готические и ренессансно-барочные напротив – потрясают именно масштабами, блеском архитектурной и декорной фантазии, сложностью и множественностью задействованных форм, однако речь в любом случае идет о той строгости и выверенности, целостности и концептуальности стиля, которая означает канон и создает сакральность зданий, их внутреннего в увязанности с ними выстроенного ландшафтно-городского пространства. И стремясь возрождать неоготику как архаично-убедительный язык сакральности в религиозно-культовой архитектуре, вторая половина 19 века прежде всего соблюдает выверенность приемов и средств, целостную концепцию их использования и благородную строгость архитектурно-декоративных форм и идей. С Гауди конечно иначе – вдохновленный идеей собора и возможностью воплотить в ней его входящий в пору расцвета модернистский гений. архитектор обращается в ее реализации к фантасмагории, гротескности и эклектичной коллажности форм, что в возведенных им самим частях здания бросается в глаза немедленно. И это, увы, невзирая на гениальность и блеск художественно-архитектурной фантазии, в основе и весьма ощутимо десакрализует идею и облик здания, и речь идет вовсе не о поиске модернистского языка для религиозного зодчества и чувства сакрального, а о довлеющем и самодостаточном потоке модернистского мышления и творчества как таковом. Ведь религия, вы не поверите – довольно серьезная вещь, тотально подчиняющая, определяющая и обосновывающая, бытие и сознание отдельных людей, обществ и огромных тысячелетних цивилизаций, да и вообще, моря и океаны пролитой во имя религиозных идей крови, усомниться в этом пожалуй не дадут. И эту кроваво-тоталитарную серьезность религии как феномена, ее основополагающую роль в социальном и индивидуальном бытии человека, во все времена воплощают идеи и множественные правила сакрального, которые в преломлении к религиозному искусству и зодчеству еще бывает называются канон и стиль. И навряд ли восхитительные заросли каменного плюща вместо классических, пусть богатых, но строгих и выверенной формой порталов, а так же похожие на иллюстрации к подвигам короля Артура, призванные взлететь на две сотни метром эллипсом башни, при всей гениальности идей и замысла в чисто художественном плане, изначально и в основах служили созданию Собора как пространства и сооружения, ореол и дух сакральности которого несомненны, способны повергнуть во прах и просто говорят характерным, неповторимым языком времени. А в Сан-Пьетро даже подобный мне закоренелый атеист с трепетом ощутит ни с чем не сравнимый дух величия религиозной веры и церкви, созданный ренессансными формами и усилием ума и творчества трех гениев эпохи – Браманте, Рафаэля и Микеланджело.
Фантасмагория архитектурно-художественных, «неоготических» по основной концепции форм, столько характерная для модернистского мышления – вот, что более всего привлекало и вдохновляло Гауди в замысле Собора. С этим же наверное, связаны художественная гениальность, оригинальность и значимость его замысла, целостного архитектурного образа здания, их восхищающая и поражающая взгляд необычность. Однако, именно это изначально послужило стиранию в сооружении ореола, духа и чувства сакральности, некой ее достоверности, созданной именно архитектурно-стилистическими, художественными и декоративными средствами. Очевидно, что Гауди задумывал и возводил собор в той же концепции ландшафтной фантасмагории, в которой создавал в самом начале века «Парк Гуэль», только в этот раз – на тему религиозного мифа и словно не понимая, что для создания сакрального пространства и сооружения собора это не вполне, быть может, приемлемо. Идея собора очевидно вдохновляла архитектора не ее сакральными аспектами и сутью, а как поле для буйства и воплощения его модернистской фантазии, поисков и опыта. Собор изначально, по самой сути замысла, интересовал его именно с этой точки зрения, как призванное стать главным памятником его жизни, таланта и творческого мышления, поисков и достижений произведение модернистского искусства, а не сакральное пространство и сооружение. А потому же – архитектурно-художественный аспект, оригинальность стилистических идей и изысков, из самых истоков доминировали в здании над его сакральной сутью и если угодно, религиозной и жизненной, культурной ролью. Собор изначально превращался Гауди из сакрального пространства и сооружения в плод поисков и упражнений его гениальной модернистской мысли, что конечно же продолжилось как концепция и далее, только в русле иных парадигм архитектурного мышления и творчества, и на гораздо более примитивном и вульгарном, словно бы напрочь забывшем о стиле, вкусе и религиозной сути здания уровне. Фантасмагорическая и гротескная, модернистская концепция архитектурно-декоративной образности, с дотошностью и глубиной продуманная архитектором, с жертвенной и посвященной искусностью и детальностью воплощенная им в северо-западном фасаде здания, по его задумке касалась и внутреннего убранства и пространства, была в этом отношении продолжена его последователями – идея священного леса, ныне предстающая глазам посетителей, истоками именно оттуда. Само по себе это, вместе с концепцией и задумкой здания в целом, служило воплощению блестящих архитектурно-художественных фантазий и вдохновения творческой мысли в той же мере, в которой и стиранию из сооружения достоверного духа и ореола сакральности. Отсюда, хоть речь и идет о гениальности архитектурно-художественной и декоративной мысли, берет начало ощущение эпатажа, профанации и «китча», которое не покидает при знакомстве с собором и его детальном посещении, преодолеть которое может лишь эстетическое восхищение перед оригинальными задумками, изысками и образами, созданными самим Гауди. А далее – всё произошедшее с Собором и замыслом архитектора лишь углубило эти тенденции, превратило в «китч» и откровенную обыденно-современную пошлость то, что при иных обстоятельствах, за счет самой художественной оригинальности и гениальности, наверное бы потрясало и само по себе рождало подобие сакрального трепета. Ведь хоть созданный современными строителями, гаудиевский образ нефов и колонн как «священного леса» безусловно оригинален, даже воплощенный исключительно пошлыми средствами, именно это, в купе со средствами, приводит к доминированию «художественно изысков», специфических архитектурно-декоративных идей, не оставляет и самой малой тени от чувства сакральности места и пространства, от нравственно-метафизического трепета, который попадание в подобные места обязательно должно порождать, в конце концов – служит ощущению «китча», современной обытовленной пошлости и «профанации». И исключительная архитектурно-художественная оригинальность идеи пространства нефов как «священного леса», вопреки ожиданием лишь способствует этому. Самая невзрачная римская кьеза, духом времени и бывшего в оном чувства сакрального, силой и правдой живописного, скульптурного и архитектурно-декоративного искусства, немедленно повергает именно в разнообразный и в первую очередь – религиозный трепет, погружает зрителя в мир образов и истин веры, которые затрагивают последние вопросы человеческого бытия и ума, в поток могучих, родственных сутью переживаний. В «Ла Саграда Фамилия», и с обытовленно-авангардистской пошлостью его более современных фрагментов, и с гениальными, художественно и стилистически оригинальными сооружениями самого Гауди, этого никоим образом не происходит, увы, хотя речь идет именно о соборе. Со всей сложной «эллиптической» структурой колонн и как такового пространства нефов, оригинальностью идеи «священного леса» и ее воплощений, доминирует ощущение пошлости и «китча», нахождения в пятизвездочном отеле или фешенебельном торговом центре. И наиболее способствует этому даже не пошлость средств и современной стилистики, а именно изначальная оригинальность художественных идей, тенденция доминирования экстраординарных архитектурно-декоративных особенностей и изысков над целями создания достоверно сакрального его духом и ореола пространства. И так это кажется именно потому, что сам архитектор, в истоках, сути и основах его замысла ощущал собор преимущественно художественным, а не сакральным объектом, искал не язык для создания ореола и духа религиозной сакральности в здании, но лишь русла для его вдохновенной архитектурно-декоративной мысли, гротескной и модернистской. О том же, как выглядело бы внутренне пространство собора, доведись самому Гауди создавать его или последуй его продолжатели основным идеям архитектора – остается лишь догадываться. Возможно, что сила художественной оригинальности и гениальности архитектурных идей Гауди, последовательно воплощенных и завершенных, сама по себе повергала бы в трепет и становилась бы чем-то «сакральным», даже поверх всей их модернистской гротескности и фантасмагоричности, тенденции доминировать над религиозно-культовой сутью созидаемого пространства и сооружения и адекватностью ей стиля. Гауди очевидно лишь «творчески игрался» идеей сакрально-религиозного здания и ее составляющими, видел в ней русло для его вдохновения и фантазии, не более. И вот, вроде бы такая уместная и логичная идея пространства нефов как «священного леса», помимо этого еще и художественно вдохновенная и оригинальная, с точки зрения самодостаточности чисто «эстетической» стороны дела, способная вызвать лишь крики «браво», вместе с тем обращается «китчем» и словно бы стирает сакральность пространства и здания, ее ощущение. В целом, стоит еще раз подчеркнуть, что в детище Антонио Гауди доминирование художественных новаторств и исканий, отношение к зданию собора более как к артефакту, а не сакрально-религиозному пространству, стремление целиком или же преимущественно превратить культовое сооружение лишь в как таковое произведение архитектурно-декоративного искусства, изначально и несмотря на гениальность чисто художественной, творческой стороны вопроса, служило именно известной «профанации» возводимого культового здания, которая в дальнейшем воплощении его замысла превратилась в откровенное опошление. Сам Гауди изначально разрушил в его замысле и детище принципиальную, сущностную и нерушимую определяемость архитектурно-декоративных и художественных особенностей культовых зданий идеей, концепцией и духом их сакральности, их религиозной функциональностью и жизненностью, собор был для него лишь артефактом, взлетом и вдохновением гениальной мысли, полем для поисков и новаторств. А истоки всего этого следует искать в секуляризации культуры и сознания эпохи, в особенностях модернистского, то есть эпатажного и гротескно-эклектичного мышления, а так же в гениальности архитектурного мышления и воображения самого Гауди, обретшей русло и расцвет именно в модернизме. Фактически, гениальный модернист Гауди подходил к замыслу и возведению собора «секулярно» и так сказать – творчески и «художественно самодостаточно», как и к работе над множеством иных зданий, особняков и общественных помещений, городских домов и т.д., стремясь лишь оттачивать и воплощать собственные представления об архитектурно-пространственной и ландшафтной красоте. Идея собора, то есть религиозно-культового сооружения, интересовала и влекла его кажется только с этой точки зрения, как русло и поле для его гениальной модернистской фантазии, отчего неоготика становится в его замысле лишь самыми общими контурами. Фантасмагория, столь характерная для модернистского мышления Гауди, а так же экстраординарные художественные и архитектурно-декоративные идеи, изначально стирали и нивелировали в здании и его облике, его концепции сакральность, превращали его из религиозно-культового пространства в артефакт, создавали в нем перевес в сторону оригинальных эстетических новаторств и изысков. И навряд ли, даже если бы сам Гауди довел его замысел до завершения, сакральности в облике и пространстве собора прибавилось. Возможно только, что сама по себе художественная гениальность и экстраординарность, придавала бы зданию силу воздействия, некоторое подобие «сакральности» и если не чисто религиозного, то эстетического трепета. От напоминающих отельный или офисный декор колонн «священного леса», от авангардистской схематичности и эклектики или же брутальной обытовленности внешнего вида нефов и приделов, испытать подобного конечно же нельзя. Собственно – и в истоках, и в его вековом продолжении, собор Гауди очевидно предстает детищем «секуляризированной» эпохи, утратившей само по себе экзальтированное, глубокое и хоть сколько-нибудь правдивое религиозное чувство, а так же ощущение и понимание сакральности, функциональной жизненности культовых зданий, целостного языка ее художественного создания и воплощения их сакральности, подобное отношение к этим зданиям. Стоите ли вы под греческими или римскими, византийскими и готическими храмами – вашим глазам предстает символически емкое, визуальное воплощение и олицетворение религиозного мифа, обладавшего в те эпохи действительностью и жизненной силой, то есть, того по сути, что и было для человека этих эпох миром и жизнью, сущим. Храмы – это всегда пространственно-визуальное олицетворение картины мира, сознания той или иной культуры, о чем бы не шла речь конкретно. Соборы же христианской Европы в особенности таковы, какую эпоху ни возьми – они задумывались и служили словно бы слепком со вселенной «божьего мира и провидения», библейско-евангельского мифа, который был для человека почти двух тысяч лет миром, жизнью и сущим, объемлил по истине всё. Этим обусловливались их сакральность и архитектурно-пространственная, художественная и декоративная семиотика, от эпохи к эпохе находившие своеобразный и неповторимый язык. И потому неудивительно, что крах самого христианского мифа и сознания, стал крахом или же просто негативными метаморфозами религиозного искусства, утратой как ощущения сакральности атрибутов и пространств веры, так и языка ее художественного воплощения. В результате, собор кажется эдаким огромным эскизным картоном, на котором, с большим или меньшим художественным вкусом и вдохновением, писали и упражнялись разные эпохи, странноватым «артефактом», но не сакральным сооружением и пространством. Основная ошибка продолжателей Гауди состояла пожалуй в том, что они окончательно превратили собор в «артефакт» и «культурный аттракцион», решившись завершить строительство, при этом отказались от идей и изначального замысла архитектора, не сосредоточились на цели возведения сакрально-культового здания, пусть и современными средствами, а в художественном и техническом отношении предельно облегчили себе задачу, низведя настоящее, по крайней мере чисто в архитектурном и декоративном отношении, модернистское чудо, до откровенно бытового строительства или авангардистского дизайна, с которым оформляют рестораны, общественные здания и отели. В современном религиозном зодчестве присутствуют элементы «дизайнерства» и ультраавангардные формы, однако – наряду с очередным возвращением к формам архаичным и аутентичным, так сказать, они используются обычно с исключительным вкусом и служат именно для создания сакральной ауры зданий и поиска ее нового языка. О попытке завершить грандиозный замысел Гауди этого сказать нельзя, увы. Ценность любых метаморфоз в религиозном зодчестве состоит именно в поиске убедительного, аутентичного и соответствующего культуре, сознанию и ментальности эпохи, архитектурно-декоративного языка для сакральности и религиозного мироощущения, фактически – ее нового канона. О «Ла Саграда Фамилия», даже в его изначальном и гаудиевском образе, этого сказать опять-таки нельзя. Столь же, сколь северо-западный фасад здания предстает буйством художественной фантазии и образцом вдохновенного архитектурно-декоративного творчества, убедительной ауры сакральности пространства и места он не создает, причем по самой сути, в особенностях концепции и задумки архитектора, об остальном же и речь не стоит вести. Здание, когда через скорое время станет завершено, несомненно будет поражать его отовсюду проступающими изысками и оригинальностями, самим его грандиозным масштабом и подобным, однако ни образец более «нового», так сказать, религиозного зодчества, нашедшего неповторимый и убедительный, адекватный целям язык, ни блестящий и гениальный, созданный в целостной стилистике памятник модернистского мышления и искусства, оно представлять собой не сможет, лишь окончательно превратившись в эпатажный культурный бренд и аттракцион. И виновные в этом очевидны.
С чисто художественной точки зрения замысел Гауди конечно же гениален, как уже не раз сказано. Антонио Гауди в принципе гениален его способностью не просто возводить масштабные и характерные по стилистике и концепции декора здания, реализуя подобное, довольно обычное понимание красоты в зодчестве, а превращать здания словно бы в «живые» души и сущности, в целостные и семиотичные архитектурные образы, которые становятся пространством человеческого бытия, маленькой вселенной человека. Экстраординарная пространственно-архитектурная образность пронизывает творения Гауди обычно не только извне, но и изнутри. Здания выходили в его гениальной и эпатажной творческой фантазии именно целостными пространственными образами, вправду – чуть ли не живыми сущностями с их специфичным, неповторимым обликом и «нравом». В таком ключе, с небывалым приливом воображения и вдохновения, с упоением гротескными фантасмагорическими идеями и возможностью их воплотить, он задумывал конечно же и Собор, идея культового здания лишь будила и подстегивала означенное, и стоит только представить, как бы выглядело здание, заверши оное сам архитектор или последуй скрупулезно его идеям продолжатели – во истину, может замереть дыхание. Ореолом подлинной сакральности оно было бы овеяно навряд ли, а вот художественная грандиозность и оригинальность в нем и его целостном образе, внутреннем и внешнем облике, конечно бы разили и потрясали, как даже сегодня это происходит при взгляде лишь на малые фрагменты, возведенные самим Гауди.
Замысел собора стал замыслом жизни Гауди, фактически – ее главным делом. Собор, как известно, принялись возводить за пределами основного города, в 1882 году, и изначальным его замыслом была классическая неоготическая базилика. Однако, в 1884 году строительство возглавляет Гауди, который привносит конечно же собственную, совершенно иную концепцию здания, в которой от изначальной остается лишь общая «неоготическая» направленность и план. Фактически – Гауди создавал собор всю его жизнь, с 32 по самый последний день жизни в 1926 году, когда привычно спеша на строительство, архитектор погиб под колесами трамвая. Достаточно сказать, что «Каза Винсенс», «Каза Балио» и «Каза Мила», «Каза ди Гуэль» и ландшафтный ансамбль парка Гуэля, то есть названия сооружений, от имени Гауди неотделимых, архитектор создавал тогда же, когда рождались общие эскизы и замысел основных фрагментов собора, и возводились портал и и башни северо-западного фасада Рождества, так потрясающие взгляд и восприятие ныне. Основным отличием проекта Гауди от изначального, являлось наверное отступление от строгости и верности традициям в неоготическом стиле и обращение к гротескным, фантасмагоричным архитектурным формам, неограниченное торжество модернистского мышления. Фактически, замысел собора и его воплощение сопутствовали становлению и утверждению модернистского архитектурного мышления и метода Гауди, и весьма правомочно предположить, что в нем архитектор почувствовал в равной мере главное дело жизни, поле для игры и буйства его творческой модернистской фантазии и возможность воплотить и опробовать самые трепетные искания и художественные цели. Собственно, ощущения и опыт впечатлений при восприятии собора, знакомства с творчеством архитектора и историей возведения его главного детища, попросту не оставляют иного. Очень многое говорит о том, что проект собора и его осуществление, познали особенное и трепетное отношение архитектора, который очевидно видел в означенном главное детище и дело жизни, возможно самое главное поле для воплощения не только его дарования, но еще стиля и концептуального зодческого и художественного мышления, в русле которых он стремился работать с молодости, на алтарь которых принес жизнь и творческую судьбу. Скорое всего, что Гауди понимал – в бесконечности исключительно одаренных мастеров зодчества и гениальных, блестящих и оригинальных сооружений, на глазах и в течение его жизни переполнявших Барселону, Париж и десятки крупнейших городов Европы, шанс создать и оставить что-то подлинно великое и вечное, способное увековечить его судьбу и имя, требует экстраординарного замысла и труда. Вот чем-то таким еще в ранней зрелости для него стал собор «Ла Саграда Фамилия», грандиозный замысел и словно бы безграничное поле для фантазии, поисков и попыток, воплощения возможностей увлекавшего до конца модернистского стиля. Известно, что к возведению собора архитектор относился по истине фанатично, стараясь уделять ему, одновременно с воплощением иных замыслов и проектов, сколь можно более времени, в последние годы жизни чуть ли не днюя и ночуя на стройке, за что в конце концов и прослыл среди жителей разрастающегося предместья и рабочего квартала Эшамплэ «сумасшедшим». И конечно – стремясь успеть задумать, запечатлеть в планах и эскизах, воплотить в реальных конструкциях как можно больше, чтобы наиболее утвердить его идеи и общую концепцию здания, и таким образом, во всегда непростой дилемме завершения и осуществления столь масштабного и сложного проекта, не оставить возможности ни сдать назад и полностью отказаться, ни отойти от прочерченного им руслом. Увы, этому дано было сбыться лишь частично. Срыть те несколько подобных живому чуду фрагментов, которые он успел возвести за более чем сорок лет жизни, в начале 50-х годов не осмелились, замысел и детище архитектора получили вторую жизнь и продолжение, хотя интенсивные строительные работы закончились практически с его смертью. Однако, в ураганом пронесшихся в художественно-эстетическом и архитектурном мышлении изменениях, замысел архитектора был извращен и упрощен, максимально облегчен и опримитивлен, словно бы «предан» и ныне, посреди масштабного нагромождения пошлости, лишь им самим возведенное напоминает о художественной гениальности, вдохновенности и грандиозности оного. Сама «неоготика» была принята архитектором как стиль лишь в самых общих контурах крестообразного плана и высокой сводчатой базилики о пяти нефах, высотных острых башен средокрестия и порталов, а так же характера дверных и оконных проемов. Однако, в буйстве его модернистской фантазии всё это было небывало, чуть ли не до неузнаваемости, с гениальной и вдохновенной дерзостью преображено в русле гротескности и фантасмагории. Строгая и взметающаяся на стометровую высоту прямота классических готических башен, стала «эллиптичной» конструкцией и совершенно диковинным, отдающим сказочностью обликом башен в целом. От характерных для готики, многоуровневых арочных проемов и обводов дверей и окон, архитектор оставляет лишь общие контуры, изысканностью и сложностью декора превращая их в нечто по истине невообразимое. Аркообразная, характерно угловатая форма окон, превращается в его вдохновении в ниспадающие заросли плюща, среди которых живут скульптурные фигуры святых и евангельские сюжеты, достигается всё это искуснейшей ручной обработкой камня и сложнейшей продуманностью множественных деталей декора и конструкций. Вдумчивый взгляд содрогнется, представив жертвенный труд мысли композитора и его создававшей эскизы руки, понадобившийся для реального осуществления архитектурно-декоративных идей и фантазий в целом. Сложность декора и архитектурных форм, наверное не зря позволяет применить к идее и замыслу собора пресловутое «поэзия в камне». Да, стоит вспомнить к примеру Кельнский собор, чтобы понять – гораздо более сложная, многообразная и сохраняющая строгость и сакральность поэзия в камне, была возможна за пять веков перед этим. Тем не менее, фантазия и труд, сложность и задумки и ее множественных элементов, жертвенный труд ее воплощения, в возведенных самим архитектором конструкциях не может не поразить. И именно это, к сожалению, побудило более поздних продолжателей Гауди извратить, предельно упростить и опошлить его архитектурные и декоративные идеи. И дело состояло как кажется далеко не только в изменившейся технологии монументального строительства и облицовки, а именно в эпохальном и ментальном отношении к подобной сложности замысла и труда его воплощения, как к чему-то излишнему. У архитекторов и строителей времен «проклятых королей» мотивацией для подобного была экзальтированная религиозная вера. У самого Гауди такой мотивацией была гениальная творческая вдохновенность, сакральность творчества и красоты, за которой, отступим, всегда читается подлинная ценность и святость для человека самого дара жизни. У современных воителей прекрасного не оказалось даже этого, а деградация вкусов и художественно-эстетического мышления, общее торжество пошлости, довершили дело. От замысла Гауди было взято опять-таки лишь самое общее – идея конструкции и облика башен, пятинефный вытянутый план и т. д. От сложнейшей и главной пожалуй в его замысле концепции декора, отказались сразу по возвращении к плотному продолжению строительства в начале 50-х годов, приступив к возведению южного фасада Страстей, относительно которого были оставлены четкие эскизы и указания архитектора. Гаудиевский замысел декора оказался не по зубам продолжателям – слишком много труда и головной боли. И ситуацию решили просто, по принципу «голь на выдумке хитра», почему-то решив, что имеют право превратить собор и его идею в авангардистское «ирландское рагу», где каждый, как известно, добавляет в конечный результат то, что кажется ему самому подходящим. Другими словами – решив, что правомочно отойти от идей Гауди, от принципа создания выверенными средствами сакральной ауры облика и пространства собора, от какой-либо целостности стиля и т. д. От гаудиевских идей громадных и аркообразных, превращенных в заросли плюща неоготических порталов, оставили лишь общие контуры, которые при визуальном восприятии издалека должны были создавать впечатление структурной аналогичности. А сами эти контуры были созданы в довольно оригинальном подходе – классические готические контрфорсы, которые можно увидеть в Праге и Париже, к примеру, были превращены в структурные элементы портала, превращающие его пространство в характерную контурами скалистую и сводчатую «пещеру», на заднем плане которой, то есть на стене портала, размещены скульптурные композиции Страстей Христовых в авангардистском стиле. Если бы весь собор создавался в подобной концепции, наверное – это производило бы чуть более убедительное художественное впечатление. Так же, в отношении к созданному самим Гауди, это порождает вот то самое ощущение «китча» и опошления, а ведь речь шла об эпохе расцвета авангардного мышления, до подсвеченного отельного дизайна было еще далеко. Замысел Гауди оказался слишком сложен для воплощения, причем дело было не только в изменении технологии строительства и обработки камня, переходя к бетонному литью, конвейерной штамповке элементов и т. д. Речь в первую очередь шла о небывалом и разностороннем труде, в первую очередь – мысли, и именно это оказалось более всего неприемлемом для ментальности времени, девизом которого стали «кайф» и достижение максимального практического результата кратчайшим путем. В отличие от Микеланджело и Гауди, современные гении красоты и зодчества не будут ни иссыхать возле задумок и проектов, ни жить одним лишь их осуществлением. Другое время. Другие ценности.
Доведи последователи Гауди его оригинальный и целостный замысел до конца, сохрани верность декоративно-стилистической и художественной концепции архитектора и ее основным идеям – на свет появилось бы нечто невероятное, способное потрясти пусть не ореолом и духом сакральности религиозно-культового сооружения, не красотой художественно и исторически выверенных средств, которыми это было достигнуто, так просто исключительностью и силой архитектурно-декоративной образности и модернисткой, гротескно-фантасмагорической стилистики, ее воплотившей. Этого, увы, не случилось. Самоотверженность и исключительность творческих и художественных усилий, а так же масштабность финансовых средств, необходимых для реализации изначального замысла Гауди, в соответствии с ментальностью и эстетикой времени были сочтены излишними. Увы, во все дальнейшее время для этого оказалось недостаточным не то что силы и чувства религиозности, а в первую очередь – жертвенной любви к красоте, искусству и творчеству, которой жил Гауди, последние годы которого целиком были посвящены именно Собору.
Гауди и вправду был гением, который по настоящему и наиболее раскрыл себя именно в замысле Собора. И замысел его очевидно оказался не по плечам тем, кто пришел на его место, во всех отношениях.
Собственно – при том, что речь идет именно о действующем соборе, в котором совершаются богослужения, большая часть из выстаивающих в него стометровую очередь посетителей, совершенно очевидно влекома в него именно как в необычное и знаменитое произведение архитектуры, «бренд» и культурный артефакт, а вовсе не пространство сакрального общения и «причащения». И движима поэтому конечно же властью совершенно иных эмоций и чувств, далеких от религиозного трепета, от метафизической и нравственной глубины, содрогания от взгляда в собственную совесть и душу или в трагическое, полное противоречий и загадок лицо жизни и окружающего мира. Далеких даже от трепета перед серьезным классическим искусством, которое переполняет европейские христианские храмы более, чем пятьсот лет, несколько исторических, архитектурно-эстетических и культурных эпох, и в его глубине и загадках не может не потрясать и не завлекать даже самый пошлый, поверхностный и не сведущий в религии и ее искусстве, в тенденциях тех или иных эпох и стилей взгляд. От восхищения и потрясения, подчас не бывало глубокого и задумчивого, проникающего в глубины души восприятия, которое наполняет взгляд посетителей римских или флорентийских соборов, а иногда и взгляд на одни лишь их, одновременно загадочно тонущие, светящиеся и проступающие под светом полночной луны контуры, бросаемый откуда-то со стороны. А ведь именно такие чувства обычно переполняют обалдело и зачарованно бредущих по знаменитым городам туристов и посетителей Сан-Пьетро или Сан-Луиджи-Дельи Франчезе, Санта-Мария-дель Попполо или Сан-Марко и Санта-Мария-дель-Фьоре, Кельнский собор или же великолепные, совершенно необычные готической, барочной и классической концепцией архитектуры парижские кафедралы, другими словами – храмы, которые, даже несмотря на давнюю превращенность в профессиональные музеи искусства, остаются при этом действующими соборами и пространством сакральных порывов и чувств. Что поделать! Сила и власть произведений классического искусства, рожденных в эпохи великих исканий и борений, еще не изувеченные торжествующим безразличием к «главному» и «последнему», подчас попросту откровенным и страшным нигилизмом обывательства, культуры потребления и приносимой этому в жертву человеческой жизни, способны обратить к экзистенциальным и духовно-нравственным переживаниям, затрагивающим именно чудо, трагизм и таинство, неохватную умом ценность жизни, даже очень молодых или простых сутью людей, так во многом очеловечивать или же приближать к тому, что из статистической социальной единицы, безличной и равнодушной к самому подлинному вещи и функции в механизме всеобщего процветания и счастья, во все времена делает человеком и конечно же – служит истоком подобного и ныне. И в этом – служить потрясению и катарсису, неким сакральным хранилищем памяти о духовном и экзистенциальном опыте, из глубин и полумрака которого тот говорит вечным по значению и вдохновенно-пророческим, доносящим что-либо до глубины языком красоты, способным с разящей и небывалой силой воздействия очеловечивать и возвращать к истокам фактором, состоит наверное главная роль классического искусства в наши дни, и не важно, идет ли речь о живописи, скульптуре, архитектуре или музыке. Ведь фундаментальное и по истине вечное, подтвержденное толщей веков значение, которым обладают для нас произведения тех или иных видов искусства, является не просто художественно-эстетическим, связанным с несомыми ими новаторством и поисками, прорывами творческой мысли, или же их неразрывностью с культурой и сознанием определенных эпох, аутентичное погружение в которые для нас исключительно ценно и важно само по себе. Такое значение является в первую очередь нравственно-гуманистическим и экзистенциальным, пусть даже в избитом, но самом несомненном и общем смысле духовным, за которым стоит именно их превращенность в язык подлинно человечного опыта, философских прозрений и глубинно-личностных переживаний людской души, исповеди внутреннего мира человека, борений и исканий его духа, затрагивающих смерть, творчество, совесть и свободу, любовь к жизни и всякий раз иначе предстающее ощущение ее неохватной умом, бесконечной ценности, особенно сильное в ясном осознании и чувстве ее трагизма.