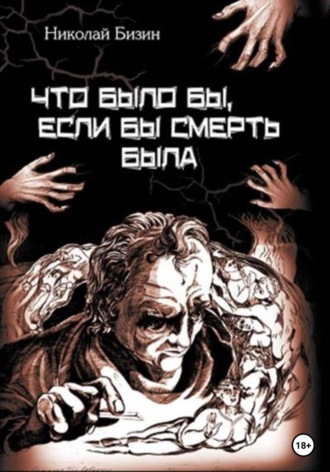
Николай Бизин
Что было бы, если бы смерть была
Итак («мира как компьютерной игры») – об изменении сознания, об алкоголической нирване и о видениях преисподней.
Итак, о преисподней. О её на земле присутствии. Всё это (и не только для Перельмана) – клубилась ad marginem нашего сознания, сиречь на Украине. Который Перельман (компьютерным изображением) – беседовал «сейчас» с Хельгой о жизненно важных (тоже на «окраине жизни») вещах: о карьере, о детях, о деньгах.
Который Перельман (тело его, отправленное в магазин) – отхлебнул-таки шершавый глоток скверной водки ещё на улице.
Который Перельман (с сознанием уже несколько замутненным) – стоял «сейчас» и смотрел на свою душу, которая – рулила им на экране монитора; которая – рулила не только им: словно бы существование целого мира зависело только от того, как поступит (тот или иной) Перельман в той реальности, что сейчас дана ему в ощущении.
Ведь Перельман – один. Ведь прозрений «много» – не бывает. Только одно прозрение (целомудрие) – насущно.
– Мне нужен ребенок, – сказала женщина. – Поэтому нужен даже не отец для моего будущего ребенка, а всего лишь донор спермы.
Она не стала говорить, что (и какие) у донора должны быть качества.
Она смотрела на Перельмана и сказала:
– Сколько вы уже не пьете?
– Более трех лет.
– Именно то, что нужно: чистый организм с сильным интеллектом; есть что передать.
– Да, – (не) согласился он.
Он ничего не мог передать. Невыразимое дается лишь даром.
Она обрадовалась его «да».
– Ещё (для социального статуса) мне не помешает побывать замужем.
– Давайте поговорим спокойно, – пошутил он-«его изображение в ресторане». – Давайте, наконец, выпьем и поговорим спокойно, как русские люди говорят о продаже души.
Стало (ещё раз) ясно: так вот зачем понадобился (именно что) пьяный Перельман! Поскольку «тот» Перельман (ещё даже не пьяный, но хмельной) – возвращался к своей душе; «та» душа – была ещё прошлой и рыхловатой, обуреваемой похотью и страстями, жаждущей алкогольной нирваны (при условии, чтобы иногда из нирваны высокомерно выглядывать).
А вот его послушное тело-курсор (перед Хельгой) – было будущим, спортивным и подвижным, разве что сейчас – издалека оглушённым шершавым глотком скверной водки (прилетевшим из другой реальности).
Привлекательное изображение именно этого тела сидело сейчас перед Хельгой.
Именно это изображение (понукаемое прошлой душой) предложило выпить и поговорить. Именно за этим предложением – послушное тело шагало за водкой, дабы теперь его звонкая трезвость ничему не мешала; но – женщина впала в панику.
Бог с ними, с прозрениями! Ведь возможный донор спермы (хотя и отрицал это, но – кто кому верит?) оказывался пьющим.
Далеко от японского ресторана прошлая душа Перельмана отвернулась от монитора и протянула «руку души» (вот так же, как светятся витражи, такова и рука – как река сквозь пространства и времена) и взяла ею у своего будущего тела початую ёмкость с алкоголем; более того!
Душа взяла водку и отхлебнула.
– Выпьем? – (почти что) крикнула Хельга. – Так вы пьёте?
– Да, пью, – ответило новое тело со старой душой.
Тогда Хельга молча встала и побежала прочь.
– Но реки, что не пьют своей воды,
Иссякнут, словно путники без цели!
Из любят женщины, не трогают собаки…
Но женщина, что мудрствует в постели -
На свете, верно, большей нет беды, – произнес он ей вослед, но – она не услышала (произнесено было строкой на экране монитора); и вот только «тогда» – почти атлетическое (но захмелевшее) тело Перельмана на проспекте Энергетиков забрало водку у души Перельмана.
И поднесло горлышко бутылки прямо к «своим» губам.
– Из нас любой, кто пожирал себя,
По жизни был не прав… Как сладко быть неправым!
Неправду и любовь, и человечьи нравы
Я буду пожирать, доколе жив.
Доколе не иссякну. Что есть путь?
Не более чем ноги, что идут.
Что есть любовь? Не более чем боль,
Доколе больно ею. Что есть Бог?
Не более чем пыль его дорог, – сказал он про себя (самооправдываясь); а как иначе душа могла хлебнуть водки – только из близкого будущего.
Только (взахлёб) – вобрать в себя астральное тело спирта. После чего душа «задумалась» – и подарила себе ещё один глоток. Такой, чтобы он шершаво покатился по (отсутствующему у души) пищеводу.
Как электрический ток по проводу.
Именно так стремилась прочь из ресторана насмерть обозлённая и оскорблённая в лучших своих намерениях Хельга; именно такой результат их встречи был наилучшим: не быть, не существовать вовсе, быть (друг для друга) никем.
Но душа Перельмана (далекая от любых неизбежностей) решила, что в этом «мире игры» всё ещё не определены несколько условий… Сделано!
Душа Перельмана отправила окончательно захмелевшее тело на кухню: наслаждаться остатками спиртного, слушать протяженность пространств и времён.
Далее: душа Перельмана тоже прислушалась к своему опьянению и двинула стрелку курсора, вернув «всё позабывшую» Хельгу за столик; но – ещё и ещё далее: тело Перельмана уже располагалось на кухне, дабы там пребывать в довольстве и опьянении
Прежде, чем позволить женщине уйти, душе Перельмана (далее) – предстояли некие определения: если (душа) полагает соучаствовать в реальном мире, как именно ей предстоит пасть? То есть – кто кого будет использовать: тело душу или душа тело.
Казалось бы, нельзя использовать невыразимое. Это как с Россией: её нельзя победить.
Нынешние помутнения (и всегдашние ad marginem – бесовство на Украине) и смущения душ очень это прояснили: как бы не унижали Россию (и Перельмана, естественно), как бы не продавали и не предавали её, она всегда побеждает (такое неизъяснимое чудо).
И не поспоришь, как с нисхождением Благодатного Огня в храме Гроба Господня: факт, данный нам всем в ощущении.
Итак(!) – в одной его реальность Хельга демон-стративно и опрометью бросилась прочь и ушла. Итак(!) – одно его тело (изображение на экране прямо-таки наливалось плотью) демон-стративно смотрело ей вслед.
Казалось бы, нельзя использовать невыразимое. Но «прошлый» Перельман – уже пожелал свои будущие воз-мужности и прочие воз-нужности.
– Сделано! – сказал ему голос.
Теперь же – Перельман пожелал договорить, и (в другой реальности) – Хельга вернулась за стол.
– Весь ваш интерес – во мне. Прозрения и сперма – у меня. Без меня у вас ничего этого не будет.
– Я подожду, – сказала она. – Вы обязательно одумаетесь и придёте ко мне.
Вот что она имела в виду: свою душу и тело (сочетание прозрений и спермы) он обязательно должен продать ей, причём – сам, только сам, осознанно, и никак иначе.
Более того (во имя всего этого) – испугавшая и оскорбившая Хельгу ремарка Перельмана о «выпить» оказалась из реальности вычеркнута (Хельга не помнила о его предложении).
Всё вернулось к посылу, что Перельман собирался её альфонсировать, и что она это прекрасно понимала. Более того (во имя этого всего) – опять ясно давала понять, что альфонсирование возможно.
Как прекрасно, что наша игра (в версификации мира) – настоль подробна.
И только теперь (и ещё раз – теперь, и ещё раз – теперь: ровно столько раз, сколько сбудется версификаций) душа Перельмана осознала, что – продав какую-то часть себя, любая его ипостась лишь лишится подобных возможностей.
И вот только теперь – всё было определено, и душа Перельмана вернула «убегание» Хельги на своё место, всего лишь убрав из её памяти его (Перельмана) возможное пьянство. Впрочем, и женщина (очень по женски) – убежала демонстративно, то есть – недалеко.
На улице она остановилась и стала ждать: умная женщина опять была согласна чуть-чуть потерпеть. Дождаться, когда прямолинейный мужлан примет все её условия. Она была убеждена в своей не-обходимости: окликни её, и тотчас вернётся!
Она и в этом оказывалась почти что права.
Но моего Перельмана, множественного Перельмана (бесполезного гения прошлых и будущих лет) – сейчас ждала уже совсем другая игра: (за-играла) его сидевшая у монитора и хлебнувшая скверной водки душа.
Его запасливая душа (посредством алкоголя – запасшая себе дополнительных «жизней»: всё как в игре – отодвигая сроки краха) собиралась играть тем Перельманом, которого Хельга так опрометчиво оставила в ресторане на Невском.
Тогда как «другой» Перельман (в «это» время) – блаженствовал за стеною, на кухне; но – словно бы пребывая в ресторации!
Руками души и ногами души (то есть глазами послушного тела) его душа оглядела стоявшие перед ней ресторанные яства. А вскоре и алкоголь (поддельное саке) – принесли. Чтобы душа Перельмана (опять-таки взглядом) – могла бы его пригубить.
Что душа Перельмана (уже) – совсем-совсем было собралась проделать. Совсем-совсем собралась вслушаться в окружающий (и отложенный, и продолженный – всё равно источающийся) мир!
Слышать, как растут камни.
Видеть, как они становятся хлебом.
Знать, что большая сила духа потребна,
Чтобы переступить добродетели, когда они закономерны.
Боги свидетели, что я не был богом ни разу,
Ибо их добродетели как великолепие алмаза,
Что (ставши бриллиантом) везде простирает грани…
Быть всегда дилетантом.
Слышать, как растут камни, души без очертаний.
Быть каждой рыбою без воды: она верила,
Что сумеет запеть без своей атмосферы.
Скажи мне, читатель, не омерзителен ли тебе торг, происшедший на наших глазах (и на экранах наших мониторов)? Разумеется, нет!
Ибо – он носит смешное название «жизнь» и (по замыслу) должен веселить и просвещать. Ибо – оба наши ростовщика (отдающие душу в рост или под залог), Хельга и Перельман, явились на торжище каждый со своим интересом: целеустремленная Хельга, к примеру, удовлетворяла творческие амбиции и стремилась к святому женскому счастью, и хотела над счастием возобладать.
А то, что у неё за плечами нет неба, так не всем же летать.
Женское счастье (если оно «земное») – всегда только в одном: быть смыслом «здешней» жизни (продолжать жизнь и рождать в смерть – создавая тонкие иллюзии избавления).
А вот Перельманов теперь было много: один из Перельманов, к примеру, пробовал обрести себе друга (как последнюю надежду на свою человечность); и уже одно «это» – искупало (в моих глазах и на экране моего монитора) все глупости другой (похотливой) его ипостаси.
Ведь то, что он пробовал обрести друга в женщине, было не совсем глупостью.
Может даже быть так, что и все остальные его похоти (всех остальных Перельманов) – не совсем глупости. Но всё это можно понять только в развитии сюжета: на его вершинах и окраинах, то есть в его (сюжета) экзистансе.
А в это время в ресторан с улицы вошла группа посетителей.
Душа Перельмана у монитора двинула стрелку, и ещё одна его минута стала другой минутой: в «эту» минуту на первый план вышла некая глумливость Перельмана, происходящая именно от его простоватости, от возможности «детскими» вопросами поставить в тупик само мироздание.
Например: так вы утверждаете, что женщина не-обходима? Вот вам на это насмешливость Сатирикона: в компании вновь прибывших (двух известных в узких кругах мужчин) был довольно-таки хорошенький мальчик!
Душа Перельмана ещё раз передвинула стрелку, и на экране (и в жизни) – Перельман поднялся из-за стола, переместился к мальцу, обнял его и принялся горячо целовать: душа Перельмана продолжала осваивать игры с реальностью.
Другое движение курсора: и прежние «хозяева» мальца совсем-совсем не обратили внимания на похищение у них предмета их обожания: миг(!) – и стало так, что не то что никто не заметил, а словно бы и раньше его у них не было.
Душа Перельмана продолжила игру.
Здесь ей выпала мысль (как при «игре» в «здешние» кости и плоть), что с ожидающей на улице Хельгой тоже возможно продолжить давешний (казалось бы – завершившийся) «возвышенный» торг.
Надо лишь (как Дон Кихот крестьянке) дать ей новое имя: Дульсинея. Спросим себя: за-чем? А чтобы и дальше с ней жить, ни о чём не жалея.
Но(!) – все похоти мира (что сейчас воплотились в перенесенном из прошлого Перельмане) тотчас громокопяще возразили душе: не спеши! Поспешишь – людей насмешишь: вот выгнала его душа Хельгу на улицу, и перед кем теперь в ресторане красоваться моему Перельману?
Для чего он целует мальца? Не для-ради красного ли словца!
Разумеется!
Ибо(!) – душа Перельмана двинула стрелку курсора, и на мониторе перед ним всё изменилось: тело Хельги продолжало ждать своего часа на улице перед рестораном, а душа Хельги (маленькая такая «вечная женственность») перенеслась опять в ресторан и увидела поцелуй Перельмана.
Быть может, все предыдущие телодвижения (смысла) – и были необходимы, чтобы произошло вот это «разделение» женщины на тело и душу: на мальца(!) и поцелуй(!) – на изображение доступного тела (и не всё ли равно, каков его «формат»), и на претворение недоступного в несовершенство доступного.
Потом(!) – лукав постмодерн! Всем нам приходилось возжелать власти над формой. И не все стали от формы свободны.
Итак, Перельман (движением курсора) – поцеловал мальца.
Причём (поначалу) – игнорируя тех, кто вошёл вместе с мальцом. Причём (со своего причала) – женская душа Хельги наблюдала за ним и за тем, как происходило происходило сие целование, столь противное (невыгодное) её естеству.
Причём (замечу) – само «её естество» (в это время) всё ещё ожидало на улице своего возвращения к Перельману!
Такая вот пародия на действительность.
Самое время цитировать петрониевый Сатирикон!
Но здесь потребуется небольшое – ad marginem – прояснение: Хельга, кроме своей ипостаси амбициозного манипулятора, была вполне реализовавшим себя литератором, автором двух или трёх романов, в коих главными героями были садомиты.
Конечно же(!) – этот «горячий» факт никоим образом «не имело» отношения к «деланию имени на горячем»; но (несомненно) – этим так же прояснялся поцелуй Перельмана, являвшийся всего лишь самоиронией над похотью, привлекшей его к Хельге.
Разумеется и это (пояснение) – поверхностно; но! Прямо на глазах (у души Хельги: положим её зрячей) – происходило покушение на житейскую не-обходимость её женского естества.
Экзистенциальной иронии в происходящем глаза её женской души – не увидели. Поэтому реакция души (и её лексика) оказались соответствующими сему глобальному непониманию.
Душа Хельги (причем на петрониевой латыни) принялась ругать похотливого Перельмана отбросом и срамником! Она кричала, причем словно бы прямо в душу его душе! Посреди притихшего зала она прямо-таки изрыгала:
– Собака! Ты не можешь сдержать своей похоти.
Относительно «прошлого» Перельмана она оказалась права: «тот» Перельман – хотел бы, чтобы его восхваляли, а не поносили. Поэтому – смущенный и обозленный всей этой бранью Перельман схватил пустою стопку из-под саке и швырнул ей в лицо.
Она отшатнулась и завопила так, словно её глаз подбили.
Это была фантасмагория! Никогда бы нордически стойкая в своих амбициях Хельга ничего подобного не допустила в свою реальность.
– Как! – в ответ ей вопил Перельман-похотливый. – Как! Эта уличная орфистка, всегда держащая нос и вагину по ветру, желает, чтобы я взял её с помоста «работорговца» (где на самом-то деле она сама продаёт свою душу), и в люди вывел? Чтобы она (как вагина вокруг пениса) обвивалась вокруг моих прозрений?
здесь требуется упомянуть, что изначально знакомство Перельмана и Хельги состоялось на презентации в Санкт-Ленинграде её второй книги, и она более чем заслуженно считала себя человеком реализованным.
но она прекрасно понимала ценность Перельмана – читающего сути мира; но она – всё равно не могла поступиться собой: она явилась торговаться и покупать… «здесь и сейчас» – оба они были всё ещё люди, хотели быть и остаться собой, и не могли иначе.
На деле (далее) – одна из ипостасей Перельмана собиралась прекращать всякие отношения с торговкой. На деле (ещё далее) – женщине справедливо (бы) показалось, что после такого кульбита никакие общения вообще перспектив не имеют.
Более того (совсем уже окончательно) – показалось, что общение этих мужчины и женщины вообще перспектив не имеет (как и мертвые сраму).
Но нет! Всё (как всегда) было немного (то есть гораздо) сложней: их (со)общение имело – бы смысл только там, где Хельгу (душу Хельги) можно будет назвать Дульсинеей.
Их (со)общение – было возможно лишь на самых вершинах и в самых низинах; потому – мы продолжим фантасмагорию дальше! Душа Перельмана двинула стрелку курсора, и в реальности ресторана ( где души почти что равны желудкам) произошло движение: в реальность вмешался целованный Перельманом малец.
Он подбежал к Хельге и поднес к её подбитой щеке салфетку с кубиком льда.
Более того(!) – помянутый малец напоминал мелкого божика мимолетной похоти Эрота (как раз из времён нероновых). Кубик льда и салфетку он взял с соседнего столика (не с того, за которым обустроились приведшие его мужчины); за этим (соседним) столиком сидели два убеждённых Украинца; заглавная буква указывает: самые что ни на есть западенского разлива радикалы и национал-изуверы.
Нам (разумеется) – сие пока что неведомо (как и то, что встреча ещё аукнется).
Эти бравые люди оказались неприятно удивлены резвостью мальца! Впрочем, нам пока нет дела до их нац-удивлений. Да и до прочих телодвижений, что происходят на окраине истины.
Вот одно их этих телодвижений:
– Сланцы? А что сланцы? – послышалось из-за столика (Украинцы попробовали продолжить прерванный разговор).
С чего бы Украинцам поминать это не экологически нечистое топливо? Если мы и узнает об этом, то не сейчас. Но это странное для ресторана (и какое-то очень сальное) слово удивительным образом версифицировало далекую Украину «их мечты» (и счастливо живущих в ней Украинцев).
Хельга (давая понять, что только сейчас осознала всю чудовищность происшедшего) – прижала лед к щеке и принялась стонать и плакать. Однако же «здешний» Перльман – тоже полностью переложился на волю Петрония и продолжал вопить на латыни:
– Ишь, надулась, как лягушка! И за пазуху себе не плюнет, пень, а не женщина!
Никто не был удивлен. Поскольку этих слов никто не услышал: реальность была помрачена украинскими «сланцами» (повторю: не слишком ценным энергоносителем); в описываемые мной «благословенные» годы никто не знал, насколько реальны мировые кризисы энергоресурсов и продовольствия.
Разве что (в ресторане на Невском) – здесь тоже шёл торг за «ресурсы»: дело обстояло, как в компьютерной игре! Тароватая Хельга полагала прикупить себе дополнительной души (лишив этой «жизни живой» похотливого Пере6льмана); но – что-то во всей этой истории для Хельги пошло «не так».
Итак(!) – цитировавшего Петрония Перельмана никто не слышал; однако – Перельман продолжил:
– Ведь рожденным в лачуге о дворцах мечтать не пристало.
Но(!) – опять же никто его слов не расслышал. Перельману сие не понравилось.
– Пусть мне так поможет мой гений, – окончательно обозлился похотливый Перельман. – как я эту Касандру-лапотницу образумлю.
Очевидно, что предсказание Хельги о его будущей неустроенности достигло-таки цели; но – ещё более очевидно, что очи похотливого Перельмана были весьма завидущими и могли бы его далеко увести.
Он (вдруг) – сказал голосом, резко упавшим с высот:
– Ведь я, простофиля, мог себе и стомилионную партию найти, – имелся в виду какой-нибудь брак по расчёту; Перельман язычески скоморошествовал: кому он в реальном (не версифицированном мире) нужен? Только себе, и всё.
Ведь и во времена Сенеки и Петрония, двух сыновей гармонии, всё делалось лишь для кухни и спальни. Потому (побитая брошенной стопкой) – Хельга решила, что Перельман (аки фаллос) смягчается и клонится в её сторону.
Она полагала, что это лишь начало. Потому (продолжая торговлишку) – сделала вид, что его понимает:
– Кто из нас без греха? Все мы люди, не боги.
Она ошибалась: стоявший перед ней Перельман был практически демон.
Поэтому (торг здесь был неуместен) – немедленно произошли перемены:
Причина раздора, целованный Перельманом прелестный юнец – оказался совершенно (как личность) забыт. Словно бы (на время) стал как предмет, который предстоит обойти стороной.
Перельмана заинтересовали слова Хельги.
Та решила усугубить впечатление и продолжила:
– Прошу тебя, будь со мной!– продолжала она ворковать на петрониевой латыни. – Во имя своего благоденствия плюнь мне в лицо, если я что не должное сделала. Ты действительно поцеловал славного мальчика не только за его красоту.
Она имела в виду: Перельман целовал красоту всего мира.
Она имела в виду: разве не стоит весь мир нашей ласки? Разумеется, стоит.
Она не подозревала, что для Перельмана ключевым было слово «разумеется». Далеко, на проспекте Энергетиков (и, кажется, то ли вчера, то ли завтра, то ли вообще через месяц) пребывавшая в алкогольной нирване ипостась Перельмана принялась читать стихи:
Разумеется даже разумом,
Что и чувства твои, и разум
Не способны сдвигать мира,
Ибо чувства и разум подробны…
И тогда я создал искусство.
Ибо небо лучше всего наблюдать из ада,
Полагая, что небу виднее…
И тогда я создал искусство,
Насаждая Сады Камней -
Полагая в ладонь вместо хлеба.
Я тебе протянул чувство.
Ты в него положила камень.
Но сама мне стала как пламень,
Чтобы камень стал добела:
Не способный сдвигать миры, я его во главу угла…
И себя распахнул будто веки,
Чтобы видеть Сад Человеков.
Становилось ясно, зачем Перельману (многообразному Перельману: и похотливому, и астральному) амбициозная Хельга: он (победитель) – самоопределяется, он (победитель) – глядится в женщину, по самой природе инстинкта самосохранения эгоистичную и живучую, но (глядится) – затем лишь. чтобы увидеть в ней все свои сиюминутные души.
Дабы выбирать (себе себя) – такую душу, какая ему потребна.
При этом (и этому благодаря) – вечная его душа остается некасаема и забавляется сиюминутностью, владея стрелкой курсора.
Становилось ясно, зачем в самом начале истории была помянута «новая» Украина: где ещё так поблизости (пространственно, а не просто – и попросту – мистически) было возможно вживую получить не просто реальную стрелялку-игру, а именно – воплощённое бесовство постмодерна?
– Сделано! – крикнул тот памятный голос: пора было ему о себе напомнить.
Получите живые кровь, подлость и прочую реальность: вы хотели исполнения – во плоти? Так и получите (от плоти) – «это» всё во плоти!
Здесь (в японском ресторане), самоопределившись, пора было завершать. Перельман сказал женщине:
– Вы мне просто не нравитесь.
Следует признать, что Перельман поступал низко.
– Ну и что? – ответила Хельга. – Вы считаете меня кастрированной сверху (смешно по отношению к женщине), но я – люто трудолюбива, амбициозна и пронырлива: это ли не талант и провиденциальность? То есть – всё то, что называется у древних семитов благословением и первородством; поймите: будущее – за мной, а без меня будущего не только у вас нет, а вообще – у «всех-всех» нет.
Она была права. Мир был жесток.
– Вы не правы, – сказал Перельман. – Я не считаю вас пустым человеком: вы наполняете плоскость. Более того, вам известно и о плоскостях над вашей плоскостью, и вы (и здесь вы совершенно правы) хотите эти плоскости использовать. Всё дело в том, что я не хочу «вашего хочу».
Всё было сказано. Самоопределение завершилось.
– Вы сами этого хотели, – сказала Хельга.
Точнее (куда более заостренно) – сказала та её ощутимая ипостась, реальная: всё ещё ждущая у ресторана, когда Перельман опомнится и побежит её догонять. «Другая» её ипостась в ресторане (виртуальная, почти призрак) – не сказала не слова и просто отвернулась.
Потом (тоже) – встала и тоже пошла прочь.
Вышла (наконец-то) – и обе ипостаси объединились, стали Хельгой и вместе побрели из этих места и времени.
Впрочем, в ресторане ещё не все завершилось.
Целованный Перельманом мальчик подошёл и взял его за руку.
– Да, – сказал Перельман.
Мальчик дал понять Перельману, что из-за столика следует подняться. После чего повёл его за собой и привел к столику, за которым сидели пришедшие с ним люди, двое мужчин.
– Здравствуйте, – сказал один из них, обликом схожий (но не совсем точно) с известным санкт-ленинградским литератором, публицистом и переводчиком Виктором Топоровым (то есть – что-то подсознательно толкиеновское, яростный гном с топором в руках). – Так вы и есть Герой?
Второй, обликом схожий (но тоже не совсем-совсем точно) с Максимом Кантором, в те годы известнейшим (и никого ещё в себе не разочаровавшим) художником и писателем, даже вежливо привстал и воскликнул:
– Дорогой Николай!
На самом деле эти двое к мальцу никакого телесного отношения не имели и не могли иметь; дело обстояло в некоей метафизической симоволике, реализованной лично для Перельмана: утилитарнно – «вскрыть» Хельгу, отвлечённо – порассуждать о прекрасном со стороны античной этики; но (оказалось) – были вещи более значимые.
Например, пресловутые сланцы. Более того, горючие сланцы. Полезное ископаемое из группы твёрдых каустобиолитов (даже не буду задумываться, что это), дающее при сухой перегонке значительное количество смолы, близкой по составу к нефти (керогеновой или сланцевой нефти).
Горючие сланцы образовались на дне морей приблизительно 450 млн. лет назад в результате одновременного отложения органического и неорганического ила.
Горючий сланец состоит из преобладающих минеральных и органических частей (кероген), последняя составляет 10—30 % от массы породы и только в сланцах самого высокого качества достигает 50—70 %. Органическая часть является био- и геохимически преобразованным веществом простейших водорослей, сохранившим клеточное строение (талломоальгинит) или потерявшим его (коллоальгинит); в виде примеси в органической части присутствуют изменённые остатки высших растений (витринит, фюзенит, липоидинит).
Вы скажете, зачем я о сланцах? А речь идёт о человеческих ресурсах, истоками своими имеющих не только небесную stratum (белые одежды), но и нечто преисподнее, моментом происхождения имеющее миллиарды лет; не будем повторять бред «о древних украх, выкопавших Чёрное море», но (давеча) – т. н Украинцы уже были помянуты среди присутствующих в ресторане на Невском.
В котором Хельга не докушала своей рыбки.
Но вернёмся к т. н. «небесной» stratum, к которой безусловно себя причисляли и Кантор, и Топоров (да и литератор-Хельга, автор книг о «педерастах», себя не обделяла такой честью); итак! Все они вдруг оказались Перельманом привлечены к происходящему священнодейству.
Я бы даже сказал: почти что теодицее.
Перельман мог бы подивиться своим внезапным подорожанием: в прежней жизни он был никому не нужным бомжом, но очень скоро и почти что сразу (ведь красивый мальчик держал сейчас за руку совсем другую его ипостась) осознал, что Максим Карлович Кантор прежде всего является русским европейцем, этаким «Горьким на Капри», и словцо «дорогой» для него означает всего лишь вежливое удаление.
Вежливое «держание на расстоянии» – всей посторонней ему ощутительной жизни, некоторую её эпистолярность: не чувствуя себя со-участником, а всего лишь (по некоей своей внутренней уверенности в своём праве) – перлюстрируя чужую переписку.
А вот приближения к своей жизни (по мнению Кантора) Перельману еще предстояло заслужить (кстати, он был прав), и никакие прозрения здесь не помогут: прежде всего – социализация, воздействие на коллективное бессознательное, то есть – «ведешь ли ты за собой массы».
«Дорогой» – то же самое, что идальго Алонсо Кехане крестьянку назвать Дульсинеей. Вот разве что Максим Карлович – не был доном Алонсо, а претендовал на роль дона Мигеля (простите за некую фамильярность, от Перельмана ко мне перешедшую).
– Я не Герой, – сказал Перельман. – И уж точно не победитель.
Имелось в виду: Николай-победитель – не совсем о нём. Он ещё только Перельман-победитель: собирает свои ипостаси и души ду'ши (то добавление к достаточному, что противоречит Оккаме и делает его витражи-ипостаси – реально живыми).
Но потом (вдруг) – «здешний он» в своих словах усомнился: перекинуться из бомжа в полу-бога – это ли не бо-гатства много? А что эти его оборотничества и прочие его ежедневные волшебства здесь мало кому известны: так и это – почти ничто, пустое.
Ведь любое личное волшебство (и здесь в нем забурлил его естественный аутентизм) есть дело интимное, сокрытое.
– А вот и нет, – сказал ему мальчик, что держал его за руку. – Ныне все эти перемены полов и природ, и прочие чревоугодничества – дело всего человечества.
Перельману-аутентисту не понравилась его безапелляционность: приравнять человеческую демон-стративность к пищеварению мозга.
Перельман-атлет согласился с его правотой.
– Я не Герой, – повторили оба они.
– Вы трус? – удивился Кантор. – То есть вы мертвец?
Он имел в виду: жить – это быть либо живым Героем, либо мертвым Героем. Ибо (в понимании художника Кантора, «этакого Горького с острова Капри») – ежели ты не версифицируешь свои жизни, то ты попросту мертв, даже ежели кажешься жи'вым.
Для Максима Кантора это было естественно и в культурной традиции, а Николай Перельман с удивлением обнаружил в этой традиции перекличку с жизнями живой или мертвой (из древних мифов Эллады), причём – и та, и другая могут оказаться жизнью волшебной.
Максим Кантор доводил (своё понимание экзи'станса) – до абсурда: дескать, аутентизм Перельмана есть трусость и бегство от жизни. Делалось это затем, чтобы здесь и сейчас у «этого» Перельмана появилась возможность от абсурда отречься, а Максим Карлович ещё раз удостоверился в своей несомненной правоте.
Перельман-алкоголик усмехнулся и не стал отвечать.
До этого разговора с Топоровым и Кантором он был с знаком виртуально (в социальных сетях); но – что за знакомство (да и кто мы там такие: аватар на аватаре) в социальных сетях? Чтобы претворить виртуальность во плоть, пришлось обратиться (своим лицом) к жизни мёртвой и (курсором) прибавить к ней живую душу.
К достаточному (deus ex machina) добавив необходимое (живое дыхание Бога).
Впрочем, вся эта история была бы совершенно невозможна без подобного добавления. Сейчас всё совершалось вживую: когда видишь чужую душу (заглядывая за экран монитора) – почти во пло'ти.
Представляешь (своею душой) – как она ощущает несовершенство мира и собственного пути.
Душа Перельмана (у монитора) – представила саму себя во плоти' и тоже не стала отвечать Максиму Карловичу: ей достаточно было виртуальных ипостасей на экране монитора и еще одной, вполне материальной – на кухне и в алкогольной нирване.
Ему (множественному человеку и почти богодемону) – всё это было очень понятно. А ещё ему теперь было многое возможно.
Например, задавать любые вопросы, один из которых он и задал:
– Они что, педерасты? – спросил он у целованного им мальчика, который пришёл в ресторан вместе с Максимом Карловичем и и Виктором Леонидовичем (ещё раз не премину об этом упомянуть).


