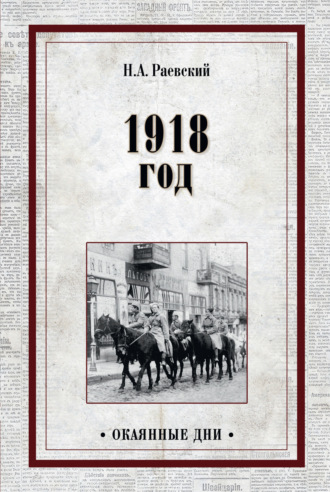
Николай Алексеевич Раевский
1918 год
К счастью, Николай Алексеевич пробыл там не очень долго, в один из зимних дней 1946 года заключенного Раевского решено было перевести в другой лагерь: «Все та же Софья Федоровна, которая работала теперь в качестве фельдшерицы, сказала мне, что меня намереваются перевести в другой, лучший лагерь, где даже имеется центральное отопление. По ее словам, это единственный лагерь такого типа во всей области»[60]. Хочется добавить одну маленькую, но весьма показательную деталь. Вот характеристика, которая была дана Раевскому в первый год пребывания в лагере одним из его работников: «Что сказать о Раевском? Работает отлично, дисциплинирован, очень вежлив, а все-таки его следовало бы расстрелять. Он был и остается врагом Советской власти, врагом убежденным и честным. Не могу этого отрицать. Но, товарищи, честный враг гораздо опаснее бесчестного». Вот так-то.
Прибыв на новое место, Николай Алексеевич первым делом отправился в санчасть и предложил свою кандидатуру. Во всю многообразную палитру приобретенных Николаем Алексеевичем в заключении профессий можно, даже с улыбкой, занести профессию банщика. Именно эта должность была ему предложена начальником санчасти: «Врач спросил, какая моя специальность. Я ответил:
– Доктор естественных наук Пражского университета.
Начальник оживился и внимательно на меня посмотрел. Я продолжал:
– Знаком с нормальной патологической анатомией, работал в качестве помощника прозектора лагеря, хорошо знаю латинский язык.
Начальник санчасти меня перебил:
– Доктор Раевский, а вы можете прочесть лекцию на тему «Что такое жизнь?» Только имейте в виду, что никаких руководств на этот счет у нас нет.
– Могу, гражданин начальник.
Внутреннее чувство подсказало мне, что обращение «доктор Раевский» уже было многообещающим.
– А сколько вам понадобится времени, чтобы эту лекцию написать?
– Дней пять.
– Ну, отлично. На пробу я вас приму и зачислю на работу в нашу баню»[61].
Вся пикантность этой работы заключалось в том, что интеллигентному Николаю Алексеевичу было поручено выдавать мыло в лагерной бане. Все бы ничего, но два раза в неделю на помывку приводили женщин, а мыло приходилось выдавать непосредственно перед помывочной: «В предбанник из раздевалки стали входить обнаженные женщины. Их, видимо, нисколько не смущало появление тут незнакомого мужчины в больничном халате. Зато сам незнакомый мужчина с непривычки был несколько смущен. Одна, другая женщина, пятая, десятая – все почти молодые, здоровые украинки, довольно бесцеремонные и все совершенно голые. Непривычно все-таки. Потом подошла ко мне и получила свою порцию мыла пожилая и на вид, несомненно, интеллигентная дама. Мне стало совсем неприятно. Тоже идея – иметь сотрудником мужчину в женской бане!»[62]
К постоянным встречам с обнаженными женщинами Николай Алексеевич, к своему удивлению, привык довольно быстро. Но вот одно дело, когда перед тобой раскрепощенные девицы, воровки, проститутки или аферистки, и совсем другое – интеллигентные дамы-политзаключенные, точно такие самые, которые составляли основной круг общения Раевского всю долагерную жизнь.
«На простых женщин я не обращал внимания, а вот раздача мыла интеллигенткам у меня не ладилась. Вид, наверное, был несколько смущенный и испуганный. В конце концов интеллигентки прислали ко мне для переговоров пожилую учительницу, которая сказала:
– Послушайте, Раевский, мы попали в плен к дикарям, ну, и будем себя вести по-дикарски»[63].
Пока одни мылись, другие стояли в очереди, и, чтобы как-то сгладить неловкий момент, Раевский нередко проводил в предбаннике литературные занятия, рассказывая дамам небольшие новеллы: «Помню, особый успех имела новелла Эдгара По «Золотой жук». Голые женщины слушали ее, затаив дыхание, а одна молодая воровка лет восемнадцати легла у моих ног и смотрела мне прямо в рот, чтобы не пропустить ни слова»[64]. Когда же новый начальник тюрьмы собирался заменить «заграничного доктора» (так называли Раевского в лагерях) другим работником, к нему явилась целая делегация женщин, которые просили оставить полюбившегося рассказчика: «Доктор не крадет мыло, совсем не крадет, а другой начнет, наверное, красть»[65]. Начальник рассмеялся и оставил Раевского на банной службе.
Лекция на тему «Что такое жизнь», которую подготовил Николай Алексеевич по поручению начальника санчасти, прошла с успехом и даже основательно упрочила его положение в медсанчасти – ему была выделена для работы отдельная комнатка.
В течение последующих трех лет, Раевский фактически был секретарем начальника санчасти, совмещая эту работу с обязанностями фельдшера, принимал участие во вскрытиях, ему даже доверили подписывать медицинские протоколы, хотя официально он не имел на это права. Раевский сумел заслужить репутацию прекрасно разбирающегося в медицине человека, что, впрочем, соответствовало действительности – те знания, которые он получил в университете, его внутреннее чутье, аналитический ум и умение правильно сделать выводы позволяли ему порой лучше профессиональных медиков ставить диагнозы. Начальник медсанчасти иной раз, в самых тяжелых и запутанных случаях, доверял мнению именно Раевского. На него также были возложены и обязанности лектора – Николаю Алексеевичу пришлось не менее двадцати раз читать заключенным лекции на тему заразных болезней и их профилактики.
Занимаясь медицинскими делами, Николай Алексеевич не мог забыть и главной своей страсти – Пушкина. По его предложению был организован пушкинский вечер: литературный доклад о находках пушкинских материалов в Чехословакии и театральное представление – сцена из «Бориса Годунова», к которой он сам сочинил стихи для кантаты на музыку Глинки. К огорчению Раевского, литературный вечер не совсем удался: «И вот эта-то затянувшаяся часть моего доклада и не понравилась блатным. Они начали прерывать меня криками: «Довольно, довольно, хватит! Постановку! А то времени не будет»[66]. Но более всего он переживает за судьбу своих пушкинских исследований, поэтому решает отправить письмо в «Пушкинский Дом» Академии наук, где подробно описывает неизвестные письма Пушкина. Эта информация вызвала чрезвычайный интерес «Пушкинского Дома» и Президиума Академии наук. И вот оттуда непосредственно в МГБ была направлена просьба отыскать материалы, принадлежащие заключенному контрреволюционеру Раевскому. Документы были найдены и отправлены в «Пушкинский Дом», где впоследствии был составлен фонд Н. Раевского под № 374.
«Если бы я верил в сверхъестественный потусторонний мир, то я бы, пожалуй, сказал, что загробное покровительство Пушкина сыграло в моей жизни очень крупную роль. ‹…› после того как в «Пушкинском Доме» было получено письмо о моих изысканиях и находках в Чехословакии, «Пушкинский Дом» обратился к соответствующим властям с извещением о том, что материалы заключенного Раевского имеют не только огромное литературное значение, но и представляют и общегосударственную ценность. В официальном письме «Пушкинского Дома» содержалась также просьба запросить у заключенного Раевского некоторые дополнительные сведения. Это участие учреждения Академии наук в судьбе ЗК Раевского, несомненно, сильнейшим образом повлияло на отношение местных властей к означенному заключенному. Начальник санчасти как-то сказал мне откровенно:
– Нам приказано выпустить вас живым и здоровым.
Я стал, таким образом, не просто заключенным, а заключенным пушкинистом, а это далеко не одно и то же»[67].
Здесь же, в лагере, он пишет работу «Новое о Пушкине», которую не успевает закончить. Впоследствии начальник санчасти переслал Раевскому этот труд в Минусинск, в настоящее время он также находится в «Пушкинском Доме».
Пушкин Пушкиным, но он-то как раз меньше всего интересовал лагерное начальство, а вот когда вдруг выяснилось, что Николай Алексеевич в студенческие годы проводил научные исследования, связанные с кровообращением клопов, оно теперь же решило, что Раевский незамедлительно должен эти научные знания использовать с практической пользой, и его назначили «заведующим клопоистреблением». Было дано нешуточное задание извести кровососущих насекомых в лагерном быту. Николай Алексеевич прекрасно понимал, что полностью от постельных клопов в условиях лагерной жизни избавиться невозможно. «Специалистом по клопам я, конечно, не был, хотя довольно основательно изучил их анатомию, но дело ведь шло не об анатомии клопов, а об истреблении оных. А я до сих пор истреблял клопов только вручную в своей студенческой кабинке в пражском общежитии, куда клопы были завезены студентами, приезжавшими с Балкан, и в теплом помещении размножились чрезвычайно. А тут масштаб – три корпуса заключенных. Что же делать? Приказ есть приказ. Я в течение трех дней обдумал свою задачу и доложил начальнику лагеря, как, по моему мнению, можно ее организовать»[68]. Раевский предложил очень, надо сказать, сложный с точки зрения исполнения, но единственно возможный способ, в котором были задействованы и пары цианида, и известка, и заделывание щелей, а также прожарка всех кроватей, постели и одежды. Оба начальника, и лагеря, и санчасти, согласились с этими предложениями, и результат оказался определенно положительный.
К работе этой Раевский, как он признается в своих дневниках, в конце концов привык, втянулся, и в какой-то мере она его удовлетворяла. В лагерях, согласно инструкциям, КР-заключенных (контрреволюционеров) не полагалось назначать на какие-то хотя бы относительно «начальственные» места, но обойтись без них администрация лагерей не могла, поэтому фактически все ответственные должности были заняты именно КР-заключенными. Но высшему руководству это очень не нравилось, и так называемых контриков постепенно стали отсылать в Сибирь.
Но пока в лагере на Раевского смотрели как на человека, который в недалеком будущем выйдет на свободу. «Один из офицеров охраны, довольно симпатичный старший лейтенант лет тридцати, сказал мне, что будет рад, если после освобождения поселюсь в его доме месяца на два.
– Вы мне очень пригодитесь, Раевский.
– А для чего, гражданин начальник?
– Вы поучите меня светскому обхождению. Как надо сидеть за столом, держать нож и вилку, как надо снимать шляпу. Вы так хорошо кланяетесь, а я совсем не умею. Нас ведь ничему этому не учили. Только козырять умею.
В другой раз тот же самый старший лейтенант завел со мной с глазу на глаз серьезный разговор.
– Какие мы офицеры, Раевский, одно слово что офицеры. Совсем не то что господа офицеры старой армии.
Я возражал вполне убежденно:
– Нет, гражданин начальник. Зря вы так говорите. Вы отличные боевые офицеры, вы одержали победу над немцами, правда, вы – не господа, и это ваше большое преимущество. Вы, по крайней мере, спокойно доживете до конца жизни, не так, как мы»[69].
Вопреки надеждам на освобождение из лагеря неожиданно было принято решение отправить Раевского в Сибирь.
«Вечером, окончив очередной деловой разговор, я спросил:
– Гражданин начальник, кажется, на этот раз мне не удастся избежать далекого путешествия?
– Да, Раевский, к сожалению, не удастся. Высшее начальство решило, что остаток срока вы должны провести в Сибири. Это распоряжение из Москвы, и мы уже ничего поделать не можем. ‹…› Грузовик тронулся. Я не без грусти смотрел на удалявшиеся три белых корпуса. Целых три года провел я здесь и провел, в общем, неплохо. Расставался с лагерем без недоброго чувства. Началось мое долгое двухмесячное путешествие в Сибирь»[70].
К новому месту заключения Раевский отбывает 1 сентября 1949 года. До него он будет этапом добираться целых два месяца. Сначала попадает в пересылочную Харьковскую тюрьму, где его задержат на несколько недель. Затем новый этап. По временам заключенных высаживали, направляли в очередную переполненную пересылочную тюрьму, и опять дорога. В одной из тюрем Николай Алексеевич в который раз читает лекцию. Во время одной из пересылок, в переполненном вагоне, где все жестоко скучали от гнетущего безделья, Николай Алексеевич за несколько вечеров сымпровизировал свою повесть-сказку «Джафар и Джан», вызвав неподдельный интерес слушателей.
Наконец 1 ноября 1949 года контрреволюционер Раевский прибыл на станцию Решоты, к месту своего последнего заключения. «Мы разминали ноги и поглядывали, что кругом делается. Любопытные молодые глаза заметили на расстоянии почерневший крестьянский домик, ничем не примечательный, но на его крыльце происходило странное действо. Старая женщина, видимо бабушка, поливала из большой лейки на голову внучке, молоденькой девушке. На морозе никто еще из наблюдателей такого зрелища не видел, и начался разговор о том, какое же сегодня число, до каких же пор эти сибиряки обливаются. Затем нас повели в лагерь»[71].
Как уже повелось, на новом месте Раевский вновь поступает в распоряжение медицинской службы. На этот раз его определяют в лабораторию, где он после месяца учебы, приобретя новую специальность, приступает к работе лаборанта.
О том, что в двух предыдущих лагерях он участвовал во вскрытиях, Раевский предпочел в Решотах умолчать. Но, к его огорчению, начальству об этом стало известно, и Раевского вновь привлекают к этому неприятному делу.
Срок заключения подходил к концу, и вот наступил заветный май 1950 года, а с ним и долгожданное освобождение. Администрация лагеря предлагает Николаю Алексеевичу выбрать один из городов Красноярского края на поселение. После недолгих размышлений писатель выбирает Минусинск – небольшой симпатичный городок недалеко от Красноярска, руководствуясь тем, что в Минусинске находится знаменитый в свое время краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова, при котором имеется самая богатая в Сибири, после Томского университета, библиотека. В музее он и надеялся поработать. Поселиться в Минусинске Раевскому было разрешено.
«Наконец сержант-освободитель пришел. Я поцеловал латышке на прощанье по-европейски руку, пожелал всего хорошего и прошел последние «заключенные» шаги от лаборатории до проходной. Там сержант позвонил еще в управление и спросил, можно ли выдать мне документы. Последовал утвердительный ответ, и я получил бумагу на руки. Оставалось попрощаться. На этот счет в лагере существовала традиция. Если заключенный не имел претензий к администрации, он пожимал руку сержанту-освободителю и говорил несколько прощальных слов. Так же поступил и я. Подал сержанту руку и сказал, что в его лице я благодарю администрацию лагеря за корректное обращение. Через минуту-другую сержант, пожелав мне всего хорошего, вывел меня за проволоку. Николай Раевский больше не был заключенным. Он оказался на свободе. Великолепное чувство возвращенной свободы – светлое, радостное, хочется сделать что-то большое, хочется куда-то ехать, куда-то лететь»[72].
По прибытии в Минусинск Николай Алексеевич отправляется в горздравотдел подавать прошение на назначение в клиническую лабораторию. В высокообразованных и умных людях везде была нужда, тем более в таких далеких, Богом забытых местечках огромной страны, как маленький, тихий, одноэтажный Минусинск. Его беспрепятственно назначают фельдшером в городскую больницу. Оклад дают небольшой, но стабильный, и Николай Алексеевич вновь погружается в медицину.
Работал Николай Алексеевич в больничной лаборатории, и в его обязанности поначалу входил забор крови для анализов. «Я единственный лаборант с ученой степенью в районной лаборатории, на всем огромном пространстве от Ледовитого океана до Монголии», – напишет он позже сестре.
Однако впоследствии медицинская деятельность Раевского далеко не ограничивалась работой в больничной лаборатории и разборами анализов. Скорее эта деятельность стала трамплином для новых научных изысканий – Николай Алексеевич, как и везде, проявил большую ответственность и талант ученого, применив к исследованию анализа крови знания по теории вероятности, с которой познакомился еще в артиллерийском училище. Довольно быстро он снискал уважение в среде коллег. И вот уже лаборант Раевский принимает активное участие в медицинских конференциях, выступает с научными докладами, диагностирует редкие и необычные случаи заболевания крови. В частности, Николай Алексеевич смог сказать свое слово в вопросе о лейкемоидных реакциях и лейкозах, в то время совершенно неизвестных большинству врачей. За одиннадцать лет работы в Минусинске он выявил сорок случаев лейкоза крови, практически не поддающегося клиническому диагностированию, в том числе восемь – в острой фазе. «Лишний раз думаю о том, как все же изменчива моя судьба. Лет десять тому назад я об этих предметах не имел ни малейшего понятия, а теперь, вот, меня как-никак привлекают для составления научного доклада, рассчитанного на врачей»[73].
Очень показателен случай, после которого авторитет Николая Алексеевича вырос в глазах не только его коллег, но и жителей Минусинска – ведь в маленьких городках слухи расходятся очень быстро. А тут такая история – Раевский спасает единственную дочь первого секретаря горисполкома. У девушки было подозрение на брюшной тиф, но соответствующие анализы неизменно давали отрицательный результат. Лучшие терапевты города пришли к печальному заключению, что у больной так называемый милиарный туберкулез – заболевание неизлечимое и смертельное. Николай Алексеевич все же упорно настаивал на правильности первоначального диагноза – брюшной тиф. Из-за спорного диагноза лечение не начинали…
«Кроме меня, диагноз брюшного тифа поддерживала только одна фельдшерица, правда весьма эрудированная. Она была студенткой одного из старших курсов медицинского института и по семейным обстоятельствам ушла, не окончив учебы. Я не сказал еще о том, что у больной девушки я констатировал именно эти своеобразные камертонные формы ядра лейкоцитов и упорно отстаивал свое мнение.
Евгений Николаевич Мартьянов относился к моим утверждениям со вниманием, но все же считал, что раз нет положительного результата анализов, значит, нет и брюшного тифа. Однако в какой-то день заболевания он, пожимая мне руку, сказал просто:
– Колонии выросли.
Случай закончился благополучно. Постепенно мои анализы приобрели в Минусинске довольно широкую известность. Даже на базаре, который являлся в то же время в своем роде народным клубом, там обсуждались всякие новости, не только городские, но и государственные и совсем личные, мне пришлось услышать, что торгующие женщины сообщали самую последнюю новость: в больнице, вот, появился теперь новый заграничный врач. Так тот как посмотрит в трубку, так сразу и говорит, выздоровеет больной или умрет»[74].
Однако Николай Алексеевич все же оставался медиком поневоле, и, несмотря на заслуги и продвижение по научной стезе, он чувствовал, что начинает охладевать к врачебной практике, которая приносила средства к существованию и определенное моральное удовлетворение, но так и не стала настоящим призванием.
Мечты о Пушкине по-прежнему владеют им всецело. Но, к сожалению, пушкиноведческие материалы здесь совершенно недоступны, поэтому возобновить прерванную работу нет возможности. И тогда Раевский решает реализовать свою нерастраченную творческую энергию, погружается в мир историй выдуманных. Вспомнив импровизацию, которая когда-то имела успех у скучающим в тесном пересыльном вагоне арестантов – он принимается записывать восточную повесть-сказку «Джафар и Джан». Пишет с большим увлечением долгими вечерами, возвратясь домой после трудной работы. Пишет на длинных обрезках бумаги, добытых по случаю в типографии – другой не было, простым карандашом – «чернил-то достать было нельзя, потому что все леденело от стужи». Он сочиняет чудесные теплые картины фантастической истории любви между арабской красавицей принцессой и бедным пастухом-музыкантом, красивую сказку со счастливым концом. Едва закончив восточную сказку, он сразу же принимается за повесть, посвященную древнегреческому поэту Феокриту. Еще в Праге, всерьез занимаясь философией Древней Греции, он увлекся его поэзией. Николай Алексеевич отправляет запрос в библиотеку им. Ленина и вскоре получает не только единственный полный русский перевод стихов Феокрита, но ещё и английский, причём с обширными комментариями.
В то же время Раевский-литератор переводит с французского, пробует себя в качестве либретиста, пишет большое исследование на тему «Шатобриан как ботаник»…
С головой погружаясь в литературную работу, Николай Алексеевич находит наконец успокоение, он словно греется в ласковых лучах греческого солнышка, в то время как за окном завывают холодные сибирские метели.
Но все же первое, что сделал Раевский, приехав в Минусинск, – тотчас же начал активные поиски родных. К его неописуемой радости, в начале 1951 года наконец удалось разыскать сестру Соню. Маму, Зинаиду Герасимовну, он уже, к сожалению, не увидит… «Снова написал в адресный стол, и это учреждение, вероятно устыдившись за свою ошибку, ответило мне немедленно. К моей великой радости и изумлению, в нем сообщалось, что Зинаида Герасимовна и София Алексеевна Раевские проживают там-то и там-то. Мама жива! Бурная радость, бурное изумление, а затем сразу жестокое сомнение: а не ошибка ли это все-таки? Пожалуй, ошибка. Я немедленно начал письмо маме, но не решился его опустить в ящик. Невероятное счастье, но пусть сестра его подтвердит, и я отправил Соне телеграмму. Все же я принялся заканчивать оставшееся незапечатанным письмо маме, вернее, сделал к нему приписку. Это было 19 марта пятьдесят первого года. Письмо осталось неотправленным. В конце дня я получил телеграмму Сони: «Коля нашелся, мамочка скончалась в прошлом году». Я не уничтожил письма, адресованного покойнице, но я никогда его не перечитал. Не хватало сил. Вот и сейчас, через много лет, не пытаюсь его разыскать, а где-то в моем архиве оно лежит. Пускай лежит»[75].
С сестрой у него завязывается большая переписка, ему это было крайне необходимо. В своих письмах Николай Алексеевич с большим чувством рассказывает сестре о том, чем жил он все предыдущие годы, открывает душу, делится размышлениями, ищет ее советов, а из ответных писем узнает подробности ее жизни и жизни дорогих ему людей. Оказалось, что живы близкие родные со стороны матушки Зинаиды Герасимовны – Пресняковы, два дяди – Леонид Герасимович и Евгений Герасимович, тетушки и любимая двоюродная сестра Ольга Леонидовна Преснякова. Для Раевского это была огромная, ни с чем не сравнимая радость – ведь так мало осталось ниточек, связывающих его с таким далеким и счастливым прошлым, и вот они снова начинают восстанавливаться. Для него это было жизненно важно, как воздух, – у него опять есть его близкие, родные, его Семья, которая будет поддерживать его в самые сложные времена, оказывая и духовную, и материальную помощь.
Работе Николая Алексеевича в музее можно смело уделить особое внимание, ведь она была основным смыслом его приезда сюда. Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова – один из первых в Сибири и старейший в Красноярском крае. Со времен становления в городе советской власти и до середины тридцатых годов, музей организовывал и проводил научные экспедиции по сбору уникальных коллекций по этнографии, археологии, биологии (в основном, энтомологические). К концу тридцатых и в военные годы музей был почти полностью обескровлен в кадровом плане, и его научная жизнь остановилась, хотя все коллекции были сохранены. Николай Алексеевич, можно сказать, оказался первым квалифицированным сотрудником музея за прошедшее к тому времени десятилетие.
«Главным его помещением был огромный двухсветный зал, в котором были размещены коллекции чучел крупных животных и птиц, расположенных в природной обстановке. Они весьма живо и наглядно иллюстрировали жизнь и леса, сибирской тайги, и здешних степей. Надо сказать, что новая экспозиция привлекала и привлекает большое внимание и местных жителей, и приезжающих посетителей. В этом отношении, я повторяю, надо сказать правду, музей даже выиграл в результате появления новых хозяев. Но вот кадры своих научных сотрудников им создать не удалось. Приглашенные в музей лица честно работали, но, не обладая соответственной подготовкой, научной работы прошлого времени продолжать не могли. Она замерла»[76].
Одна из лучших энтомологических коллекций во всей Сибири, собранная до революции и в первые годы Советской власти, очень заинтересовала бывшего «бабочника». Но директор музея в силу известных причин – музей в те годы состоял на балансе Министерства государственной безопасности – отнесся к Раевскому с недоверием, и допускать до фондов бывшего контрреволюционера осторожный директор счел делом рискованным. Однако постепенно, не столько своими научными познаниями, сколько умением быть интересным собеседником, с помощью сотрудников музея – людей не очень грамотных, но любящих свое дело, Николай Алексеевич все-таки сумел найти подход к руководству и получил разрешение поработать нештатным сотрудником. Не откладывая, он начинает знакомиться с фондами.
«Заведующая библиотекой допустила меня без всяких осложнений к каталогам библиотеки, в свое время хорошо составленными ее предшественниками. Я посвятил просмотру этих ящиков несколько часов и в этот день, и в несколько последующих. Перебирая карточки, я убедился в том, что рассказы о богатстве библиотеки Минусинского музея нисколько не преувеличены. Меня особенно обрадовало наличие здесь всех почти известных мне русских сочинений по систематической энтомологии, а также обширной коллекции старых журналов. ‹…› Совсем не провинциальная библиотека, совершенно не провинциальная. Библиотекарша мне сказала, кроме того, что есть еще большие не разобранные фонды, главным образом на польском языке. Впоследствии, когда я стал нештатным сотрудником музея и получил доступ к архиву Мартьянова, который, надо сказать, он оставил в превосходном порядке, это впечатление не провинциальности еще более усилилось»[77].
Для начала Раевский составил подробный проект возобновления работы музея, список необходимого оборудования, настаивая на приобретении достаточно дорогих приборов для исследования водной фауны близ Минусинска. Как ни странно, материальное обеспечение знаменитого в прошлом музея было хорошим. Раевский проделывает грандиозную работу по восстановлению энтомологических и орнитологических фондов, приводя в порядок коллекции и каталоги, переводит ряд документации с латыни – сотрудников со знанием латинского языка не было здесь вот уже более тридцати лет. Он бродит по окрестностям Минусинска и даже отправляется в отдаленные экспедиции для восстановления музейного гербария и коллекции насекомых.
«…Болота осушены, но осталось больше десятка небольших озерков, и я решил, что надо их заснять при помощи артиллерийской полевой буссоли, которая, к счастью, нашлась в музее, и изучить озерную флору и фауну. Предварительным экскурсиям, которые я подробно описал в ряде писем сестре, я посвятил свой второй отпуск, отпуск пятьдесят второго года ‹…› Результаты получились немалые и, во всяком случае, интересные. Я знал, что в двадцати пяти – тридцати километрах от города находятся так называемые Инские озера, Большой и Малый Кызык-куль, живописные места, почти не тронутые культурой. В отпуск пятьдесят первого года мне было не до них, а в пятьдесят втором я совершил несколько поездок в эти действительно очаровательные места. ‹…›. Свободно делал пешком по двадцать пять – тридцать километров. В одном из писем я сообщаю о первой, радостно взволновавшей меня находке. В великолепном, совсем не тронутом культурой березовом влажном лесу я впервые в жизни нашел самую крупную из встречавшихся в Советском Союзе орхидей – башмачок, который носит латинское название Cypripedium Macranthum. Это великолепный малиновый цветок, ничуть не уступающий по красоте магазинным тропическим формам»[78].
Своими впечатлениями от работы Николай Алексеевич постоянно делится в письмах с сестрой Соней, и в одном из ответных писем писатель узнает новость, несказанно его обрадовавшую. 27 марта 1953 года принят закон об амнистии преступникам, осужденным по контрреволюционным статьям! И вот уже затеплилась надежда после многих десятилетий разлуки вновь увидеться с сестрой – бывший контрреволюционер имеет право теперь более свободно, хотя и с некоторыми ограничениями, передвигаться по стране. Запись в дневнике: «…телеграмма Сони: «Поздравляю праздником снятием ограничений получением паспорта». Хорошо помню, что, вручая мне документ, начальник милиции счел нужным сказать вопросительно-наставительным тоном:
– Вы нас не подведете, Раевский?
Капитан пожал мне руку, а я ответил по возможности спокойно:
– Я никого и никогда не подводил.
Я положил заветную книжечку в боковой карман и вышел из управления милиции уже в качестве своего советского человека.
Настроение было смешанное. Исполнилось то, на что я решился только после восьми лет сложных и тяжелых размышлений. Потом еще ровно год тянулась изрядно меня утомившая процедура по оформлению гражданства. Теперь все кончено. Получил все права и преимущества, присвоенные советским людям. Но в то же время книжечка, которая сейчас у меня в кармане, накладывает и ряд нелегких, прежде мне чуждых обязанностей. На мгновенье мелькнула тревожная и обидная мысль: а не скажут ли все-таки обо мне когда-нибудь, что Раевский – изменник белому делу. Мелькнула и погасла. Нет, внутренний голос говорит, что я не изменник. Был верен белому делу до конца, до последнего предела, но ведь его больше нет, оно умерло, ушло в историю, а я хочу еще пожить, хочу творить, на что я, кажется, способен. Реминисценции прошлого потом иногда все же давали о себе знать, и мне становилось больно на душе»[79].
В 1954 году Н. А. Раевский едет в Караганду к сестре – долгожданная встреча наконец-то состоялась!.. Теперь не только тетрадные листочки, исписанные мелким почерком, соединяют их – теперь можно говорить, глядя в глаза, держа за руку самого родного, самого близкого человека. Говорили долго, взахлеб и никак не могли наговориться… Николай Алексеевич напишет сестре уже из Минусинска: «Пятнадцать дней, проведенных у тебя, были чудесной моральной ванной из ободряющей воды. Только выходить из нее было грустно. Да и сейчас грустно, что мы снова расстались. Но теперь я вижу перед собой не воображаемую Соню, а тебя настоящую, живую с милыми твоими морщинками и усталым лицом»[80]. После свидания с сестрой он едет в Алма-Ату, где ему удалось за очень короткий срок получить предварительное согласие на работу. Он пробыл там всего несколько дней, но успел полюбить этот город всем сердцем: «Чем ближе к Тянь-Шаню, тем живее становится природа, а у самой Алма-Аты – великолепие южной Украины, богатейшие поля, колонны пирамидальных тополей и все это на фоне чудесных гор с заснеженными вершинами. Очарованье, да и только… Ночи в Алма-Ате мне напомнили Грецию – такая же ласковая теплынь, какую я описываю в «Днях Феокрита». Город совершенно удивительный – сплошной старинный парк – гигантские пирамидальные тополя, дубы, лет по восемьдесят – девяносто, акации и разные другие деревья, которые я уже не надеялся когда-либо увидеть. Здания невысокие из-за землетрясений – всего два-три этажа, так что их порой не видно в этом удивительном парке. Дождей не было давным-давно, листва, к сожалению, пыльная, но растет все буйно, роскошно, стремительно, потому что воды сколько угодно. Вдоль улиц бегут арыки – поливай сколько хочешь. Ты знаешь, я помню цветники царских резиденций, видел цветы Версаля, Праги, разных чешских магнатов, но Алма-Ату в этом отношении можно сравнить с чем угодно. Площадь цветов в центре города и главный цветник городского парка совершенно изумительны. Сверху вечное солнце, снизу – все время вода – вот и получается почти что тропическое великолепие…»[81]






