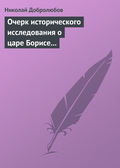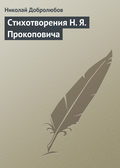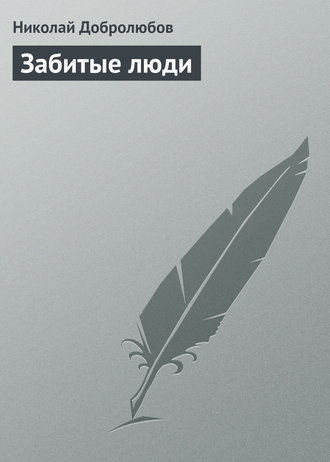
Николай Александрович Добролюбов
Забитые люди
Мы уже сказали, что прямого ответа на такие запросы не дает ни одно лицо, ни одна повесть г. Достоевского в отдельности. Чтобы найти ответ, мы должны группировать их и пояснять одни другими.
Люди, которых человеческое достоинство оскорблено, являются нам у г. Достоевского в двух главных типах: кротком и ожесточенном. Первые не делают уже никакого протеста, склоняются под тяжестью своего положения и серьезно начинают уверять себя, что они – нуль, ничего, и что если его превосходительство заговорит с ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодетельствованными. Другие, напротив: видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли, – попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире не попросить и не принять ни услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удается выдерживать характер, и оттого они вечно недовольны собою, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и т. п.
Между этими двумя крайностями стоит еще разрядец людей, которых можно, пожалуй, отнести скорее к первому типу: это люди, потерявшие широкое сознание своего человеческого права, но заменившие его какою-нибудь узенькою фикциею условного права, утвердившиеся в этой фикции и бережно ее хранящие. При всяком случае, где подобные господа воображают, что их личное достоинство в опасности, они готовы повторять, например, что «я титулярный советник», «мне сам Василий Петрович руку подает», «меня штаб-офицерша Похлестова знает» и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые донельзя и сами всех более несчастные своей обидчивостью.
Кто наблюдал в нашем обществе над тем, что называется «мелким людом», тот знает, что кроткие и покорившиеся люди тоже иногда бывают обидчивыми и щепетильными. Это зависит от отношений: пред начальником отделения помощник столоначальника – пас, смирился совершенно; но с другими помощниками он считает себя «в своем праве» и за это право держится ревниво и угрюмо. Последняя сторона развита г. Достоевским в «Двойнике», в котором много хороших мест погибло, к сожалению, в общей растянутости и неудачной фантастичности рассказа. Но мы покамест обратимся теперь к анализу первой черты – совершенного смирения и тупого успокоения на своем положении, каково оно вышло.
Кажется, тут бы и говорить не о чем: человек убедился, что он глуп, или безобразен, или манер не имеет, – ну и ладно, и бросить эту материю… Что тут канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнее: знает, что слеп, так и подсматривать нечего… Сиди да слушай, что другие скажут. И какой интерес – описывать то, как слепой не видит?..
Но вот в том-то и заслуга художника: он открывает, что слепой-то не совсем слеп; он находит в глупом-то человеке проблески самого ясного здравого смысла; в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда незаглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие. Такие открытия делает нам Гоголь в некоторых повестях своих; то же, только в несколько затейливой форме, находим мы в «Бедных людях» г. Достоевского и отчасти в других его повестях.
Чиновник Девушкин, например, живет себе, дожил до седых волос, прослужил без малого тридцать лет тихо и скромно, ни о чем не задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мне, – объясняется он с Варенькой, – про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил, так чего же на старости-то лет привередничать? Я сыт, одет, обут, да и куда нам затеи затевать! Не графского рода!.. Родитель был не из дворянского звания, и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. – Я не неженка!» И точно, он не неженка: квартиру занимает за перегородкой в кухне, платит за нее по два целковых и утешается тем, что он «ото всех особнячком, помаленьку живет, втихомолочку живет!»… «Сыт я», – говорит, а за стол платит пять целковых в месяц; можно представить, какая тут сытость. Обут и одет он, – тоже соответственно, но все повторяет: «Я не ропщу и доволен, жалованья достаточно, вот уже несколько лет достаточно». Относительно своего умственного состояния он тоже сознает, что он человек неученый, на медные деньги учился, и слога не имеет, и высоких материй понимать не может, а потому далеко и не лезет. С общественным своим положением он примирился отлично. Он дошел до таких выводов, успокоительных и резонных: «Всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом». Утвердившись в таких целительных мыслях, Макар Алексеич вместе с тем совершенно теряет всякую опору внутри себя, в собственном рассудке и высшею, единственною мерою своих достоинств считает уже не собственное сознание, а мнение начальства и формальные отношения. Достоинства свои он описывает таким образом: «Состою я уже около 30 лет на службе, служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны (собственное-то сознание куда пошло!); и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны». Далее Макар Алексеич опять показывает, как сильно его собственное сознание: я, говорит, «в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, – в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил»… Как видите, крестик составляет в некотором роде базис философии Макара Алексеича и самый высший, последний аргумент его. Он не лишен и амбиции, но она удовлетворяется тоже довольно легко; он раз, например, выпил неосторожно, дебошу наделал, по его словам, и после того пишет к Вареньке, утешая ее: «Вы, – говорит, – обо мне не беспокойтесь; спешу вам объявить, что амбиция моя мне всего дороже, и уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему». Вообще Макар Алексеич до того дошел, что даже сапоги и шинель носит не для себя, а для других, в особенности же для его превосходительства; и чай пьет тоже больше для других, и все для других из амбиции. «По мне все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить – я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький». Но «сапоги нужны для поддержки чести и доброго имени: в дырявых же сапогах и то и другое пропало». То есть как же пропало? А так, что «вдруг его превосходительство заметят и невзначай как-нибудь отнесутся на мой счет – беда!..» К этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся в голове Макара Алексеича, прибавьте умилительно-подловатое впечатление, оставшееся в нем от сцены, когда у него отлетела пуговица в присутствии генерала и генерал дал ему сто рублей и пожал руку. Сцена эта действительно превосходная, много раз была цитирована и потому, конечно, памятна читателям. А вот мысли о ней самого Макара Алексеича: «Клянусь вам, – пишет он Вареньке, – что как ни погибал я от скорби душевной, в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне; соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что как я ни грешен пред всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!» В этих излияниях душевных вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите – даже утонченную деликатность Макара Алексеича; но согласитесь, что ведь вам жалко то унижение, в какое он ставит себя, и только сила сострадания прогоняет в вас то чувство отвращения, которое иначе невольно возбудилось бы в вас таким искажением человеческой природы… Забитый, тощий пес Улисса{16}, с воем и ласкою встречающий своего господина, неизмеримо ближе и равнее с ним, нежели этот чиновник с благодетельным его превосходительством. Полное отсутствие какого бы то ни было сознания о своем достоинстве, полное признание своего ничтожества, исключение себя из того рода существ, к которому равно принадлежат и Макар Алексеич, и его благодетель, – вот что видите вы в излияниях его благодарности. А он между тем счастлив, сам счастлив собственным унижением, и в умилении молит бога простить ему «ропот и либеральные мысли», которые он позволял себе подчас «в прежнее грустное время…»
Вот образец того, что нужно в общем механизме для успешного течения дел. Кажется, ничего не может быть лучше. Общество, достигнувшее того, что в нем вырабатываются подобные типы, может, кажется, назваться образцовым, совершенным, безукоризненным в смысле государственной теории. Здесь не только установлена и поддерживается известного рода иерархия… Это бы еще не штука: мало ли что можно установить и поддержать силою, – и кардинальское управление держится до сих пор в Риме… Но здесь не то: здесь установившаяся иерархия не имеет даже надобности быть поддерживаема: так ясна для всех ее польза и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобрение каждого, даже наименее ею ублаготворенного, до такой степени все при ней сознают себя счастливыми и довольными… Нельзя всем быть богатыми, всем талантливыми, всем красивыми; нельзя всем начальствовать, всем быть на первых местах; но истинный идеал государства состоит в том, чтобы всякий был доволен на своем месте, всякий сознавал законность и глубокую справедливость своего положения и с такою же охотою повиновался, с какою другие повелевают, так же был спокоен и счастлив при своих десяти целковых жалованья, как другие при двадцати тысячах дохода. Вот тогда может осуществиться идеал золотого века; тогда, если даже кто и неприятности от других потерпит, – и это не расстроит ни общего хода дел, ни его собственного счастия, потому что и в неприятностях этих он будет видеть дело законное и полезное и будет примиряться с ними, как с годовыми переменами. Всякий член идеальной иерархии будет рассуждать, как рассуждает, например, Макар Алексеич о начальнических распеканциях, по поводу насмешника, дерзнувшего иронически о них отозваться: «Отчего же и не распечь, коль нужно нашего брата распечь?.. Ну, да положим и так, например, для тона распечь, – ну, и для тона можно; нужно приучать, нужно острастку давать… А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный; – это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, что все мы, один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял, и порядка бы не было».