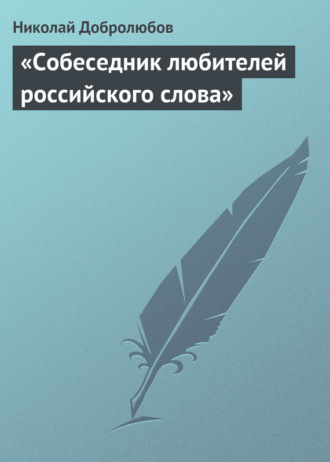
Николай Александрович Добролюбов
«Собеседник любителей российского слова»
В первой же книжке «Собеседника» помещена статья «Приятное путешествие», в которой рассказывается, между прочим, следующий эпизод. К одному богачу, во время богатого обеда в его загородном доме, является бедная женщина, которой муж был благодетелем этого богача. Увидав ее в окошко, хозяин начал роптать на беспокойство, которое ему причиняют бедные люди. Когда же она пришла, то он на все мольбы о помощи ей и малолетним детям ее отвечал сухо, что помочь ей не может, что издержки его и без подаяния велики. Таким образом, отказав ей, он еще оскорбил ее названием нищей, замечает автор. «Преисполненный омерзением, автор вышел и уже к недостойному тому богачу более не возвращался»[142]. Затем следует еще несколько резких обличений на бездушных богачей. Несколько таких выходок есть также в статье «Путешествующие»[143], при рассказе одного подобного случая. Какой-то несчастный, будучи в Лондоне, обратился здесь к своему министру, в надежде, как у земляка и человека, найти у него прибежище; но «знатный мой, ополчася своим величием, бедняка и до лица своего не допустил». Бедняк принужден был наняться в матросы на одном судне, чтобы иметь возможность возвратиться в отечество[144].
В XIII части есть статья «Приключение», которой содержание состоит в том, что проезжему, заблудившемуся в пути, встречается барин, возвращающийся с охоты, и на просьбу о помощи отвечает: «Мне не до вас: я, право, не ужинал, так спешу домой». Потом встречается дровосек и приглашает проезжего к себе в избушку[145]. Это опять дает повод автору к нескольким горячим словам обличения. В IV части выведена еще любопытная личность майора Щелчкова «из солдатских детей, по жене разбогатевшего». «Лучшая его в деревне забава состояла в том, чтобы, выбрав сильных мужиков, ставить их на колени и щелкать по лбу. Он в сем искусстве так отменно был силен, что во всем его селе не было лба, у которого бы он одним щелчком не отшибал памяти»[146]. Этот человек делал что хотел в уезде, и на него не было никакого суда: «ибо воевода и с приписью подьячий, с женами и детьми, были не что иное, как твари, питавшиеся от крупиц, падающих из майорского дома». Кто знает нравы нашего общества того времени, особенно провинциального, тот оценит справедливость и грустное значение этих заметок.
Но ни на что не обращалось в «Собеседнике» стольких преследований, как на легкое поведение тогдашних женщин и на слепое пристрастие ко всему французскому. По заметкам современников, по целой литературе екатерининского времени мы знаем, как распространены были действительно эти недостатки в тогдашнем обществе (60). И это было великое дело – восстать на пороки сильные, господствующие, распространенные во всех классах общества, начиная с самых высочайших, и чем выше, тем больше, по крайней мере в отношении к первому. Смотря на эту сильную, настойчивую борьбу с главнейшими недостатками эпохи, нельзя с сожалением не припомнить нашей литературы последнего времени, которая большею частию сражается с призраками и бросает слова свои на воздух, которая осмеливается нападать только на то, что не простирается за пределы какого-нибудь очень тесного кружка или что давно уже осмеяно и оставлено самим обществом. Это тем более досадно, что с нынешними своими средствами она могла бы сделать гораздо больше для общества, нежели в то время, когда она сама еще едва выходила из пеленок (61).
Резкость и бесцеремонность выражений, в которых описывается в «Собеседнике» тогдашний разврат, может показаться странною и неприятною для утонченных нравов нашего времени, которые позволяют делать некоторые вещи, но не позволяют говорить о них. Принимая в уважение это обстоятельство и не видя надобности приводить доказательства на столь общеизвестный предмет, мы удержимся здесь от выписок из статей, в которых особенно резко изображаются отношения тогдашних женщин к мужьям и пр. В каждой книжке «Собеседника» можно найти непременно насмешливое описание какой-нибудь четы, или госпожи с господчиком, или просто госпожи, излагающей свои понятия об этом предмете. Есть также несколько эпиграмм, в которых все остроумие вертится на слове рогатый. Вот, например, одна для образчика:
Филинт искал купить хорошую картину,
Изображающу рогатую скотину;
Он в лавку только лишь ступил,
То зеркало купил[147].
До какой степени доходило расстройство всех семейных отношений, можно видеть из нескольких стихов в «Послании к слову так». Здесь жена просит мужа позволить ей помахать (техническое слово тогдашнего времени) для того,
Чтоб свету показать, что мы живем по моде.
Муж по моде потакает ей, и она продолжает:
Mon coeur très obligé[148],
Ведь верность наблюдать, конечно, préjugé?[149]
И верность в женщине не глупости ли знак?
Тут муж ей говорит: «Так, маменька, так, так»[150].
В этой же части помещено будто бы полученное издателями письмо от одной дамы, жалующейся на своего мужа, который не дает ей махать. «У него такие идеи премудреные, – говорит она, – он совсем не слушает резону, а еще умным человеком считается. Я ему тысячу примеров насказала, да он мне отвечает теми же глупостями. Я не знаю, что мне с ним делать. Он, конечно, видит, что в хороших сосиететах за порок не почитают махать от скучных мужей и что, напротив, таких женщин везде хорошо принимают; а ежели бы маханье было порок, то бы, всеконечно, их в хороших домах не ласкали. Но со всем тем муж мой все при старых каприсах остается»[151].
Таким образом, видно, что разврат вошел в обычай, в моду и даже считался признаком образованности. Многие тогда не женились только потому, что «c'est chi bon ton[152] – быть холостым», как сказано в другой статье[153]. Следовательно, моде этой подражали равно мужчины и женщины.
В «Собеседнике» есть несколько статей, собственно посвященных этому предмету. Таково письмо, из которого приведена выписка[154], «Исповедание жеманихи»[155], «Прогулка»[156], «Маскарад»[157]. Кроме того, много заметок рассеяно мимоходом в других статьях. Даже «Были и небылицы», в которых никак нельзя ожидать рассказов о подобных предметах, касаются их нередко[158]. Впрочем, нельзя не отличить в этих нападениях двух сторон: одна – на самое дело, – и это насмешки, очень невинные и снисходительные; другая – на те средства, которыми хотят привлекать к себе, – на щегольство, прикрасы личные и пр. Эти нападения жестокие и нещадные. Видно, атмосфера до того была заражена, что даже лучшие люди не могли вполне понять гадости самого порока и смотрели на него как на вещь очень обыкновенную и неважную в сущности, заслуживающую порицания только смотря по форме, в которой она проявляется. Из всех статей «Собеседника» видим, что тогда разврат женщин осуждали только с одной точки зрения – за то, что здесь находили обман. Сущность же дела казалась очень милою, привлекательною и вовсе не беззаконною. Доказательств можно найти тысячу в литературе того времени: в сочинениях Державина, Богдановича, Фонвизина, Майкова, Екатерины и пр., даже в статьях «Собеседника», даже в тех самых статьях его, которые вооружаются против «развращения». В первой книжке «Собеседника» помещена идиллия «Вечер», в которой рассказывается встреча пастуха вечером в роще со спящею, разметавшеюся пастушкою[159]{37}. Идиллия эта не отличается большою скромностию и напоминает Богдановича в сцене задуманного самоповешения Душеньки. Вероятно, это и нравилось тогда. Каковы были требования тогдашних барынь от мужчины, видно отчасти из одного намека в «Записной книжке». Две женщины восхищаются одним молодым человеком, и на вопрос: что они нашли в нем хорошего? – одна отвечает: «Ах, неужто ты этого не приметила? Посмотри, пожалуй, какой рост!..» «Он головою выше моего мужа», – пресекла другая[160]. Взгляд на самую любовь был совершенно чувственный. Вот, например, для доказательства начало оды «К любви», из «Собеседника»:
О ты, что чувства в нас питаешь,
Томишь и услаждаешь кровь,
Приятну страсть в сердца вливаешь,
О ты, божественна любовь…[161]
Смотря на любовь как на волнение крови, конечно нельзя было иметь строгого взгляда на семейную нравственность.
Но корень всему злу было французское воспитание, и на него-то обращена большая часть самых ожесточенных нападений. Причина этого настойчивого преследования объясняется отчасти тем, что тогдашнее волнение умов во Франции грозило многим и в политическом отношении, отчасти же и тем, что княгиня Дашкова, понимавшая истинную сущность дела, естественно должна была негодовать, видя, как русские люди, знакомясь с литературой и нравами Франции, перенимали самое пустое, самое глупое, самое ничтожное, не обращая внимания на то, что составляло действительное сокровище, что могло в самом деле образовать и облагородить человека. Эти две причины, до некоторой степени противоположные, если рассмотреть их внимательно, произвели, однако ж, одно следствие: осмеяние пустого подражания французам (62). В этих насмешках попадается несколько характерных черт, которые могут служить любопытным выражением нравов того времени.
Иметь учителя француза или мамзель француженку считалось необходимым в порядочном семействе. Автор статьи «О воспитании» говорит: «Нередко случалось слышать, особливо в замоскворецких съездах или беседах: «Что ты, матушка, своей манзели даешь?» – «Дарага, проклятая, дарага! Да что делать! хочется воспитать детей своих благородно: 180 руб. деньгами, да сахару по 5 и чаю по одному фунту на месяц ей даю». – «И, матушка, я так своей больше плачу: 250 руб. на год да домашних всяких припасов даю довольное число. Правду сказать, зато она уже моет кружево мое и чепчики мне шьет, да и Танюшу выучила чепчики делать. Нынче, матушка, уж и замуж дочери не выдашь, коли по-французски она говорить не умеет, а ведь постричь ее нельзя же. Как быть! Да я и сама таки люблю французское благородство и надеюсь, что дочь моя в грязь лицом не ударит»[162]. При таком воспитании, при таких руководителях с первых лет жизни основательного образования, разумеется, нельзя было и ожидать. И вот выходили молодая девушка или молодой человек с презрением к отечеству, с беспредельным благоговением ко всему французскому, с легкой головой, с пустым сердцем – словом, нечто вроде соллогубовского Ивана Васильича с своей матушкой{38}. У девушки тотчас является желание иметь petite sante[163] и тратиться свыше состояния на французские накладки, шпильки и булавки. Об этом много говорится в «Собеседнике» и в статье «О воспитании» и в других, например в «Письме некоторой женщины»[164], при котором есть даже примечание издателей, подсмеивающееся не над безнравственностью его, а над тем, что в нем много французских слов. То же есть в «Записной книжке» сначала[165], в «Подражании английскому «Зрителю»«[166], в «Прогулке»[167], в «Вечеринке»[168], во «Французской лавке»[169] и пр. Не делаем выписок, потому что и без того слишком много выписывали; притом из этих выписок мы узнали бы нового разве только то, что тогда была мода носить дамам высокие каблуки, растрепанные волосы, румяниться и притираться, что были в употреблении:
Флер, креп, лино, цветы, и перья, и накладки[170].
И здесь, впрочем, зло было слишком сильно, и «Собеседник» старался только уменьшить, а не истребить его. В статье «О личных прикрасах» он прямо сознался, что есть «необходимо нужное зло»[171].
Молодой человек тогдашнего времени при малейшей возможности отправлялся в вояж и прямо направлял путь свой в Париж. В дороге он ограничивал свою наблюдательность трактирами, честолюбие его удовлетворялось названиями сиятельства и светлости от трактирной прислуги; любознательность не шла далее покроя платья. В самом Париже изучал он модные лавки, гулянья, лореток и даже спектакли – для того чтобы знакомиться с актрисами. Возвращаясь в отечество, он исполнялся горестию, что должен со слугами объясняться не по-французски и что нельзя между невеждами вести образованной парижской жизни. С полным презрением ко всему родному, с совершенным отсутствием серьезного образования, эти люди были уверены, что они обо всем могут судить очень дельно, и потому говорили обо всем решительным образом, пренебрегая все то, что видят дома, а решения свои считая выше всякой апелляции, потому что были в Париже. Так «Собеседник» описывает русских путешественников конца прошедшего века в статьях своих: «О воспитании»[172], «Просвещенный путешественник»[173] и «Путешествующие»[174]. К этому можно прибавить характерную заметку мизантропа из «Записной книжки». «Молодой путешественник, – говорит он, – спешит в Париж, чтобы перенять разные моды и со вкусом одеваться, в Рим – чтобы посмотреть на хорошие картины, в Лондон – чтобы побывать на конском ристании и на драке петухов; но поговорите с ним о нравах, законах и обычаях народных, он скажет вам, что во Франции носят короткие кафтаны, в Англии едят пудинг, в Италии – макароны»[175].
Таким образом, не мудрено поверить, что в обществе царствовали величайшее легкомыслие, пустота и полное невежество в отношении ко всем вопросам науки и литературы. Просвещенный путешественник говорит, что он не крестьянин, чтобы ему интересоваться успехами сельского хозяйства и задачами политической экономии; что он не будет составителем календарей, чтобы ему заниматься математикой и физикой; что он не секретарь, чтобы тратить время на изучение прав народных. При господстве такого образа мыслей легко могло произойти то, что утверждает мизантроп: что если два человека с талантами в обширном городе встречаются, то так друг другу обрадуются, как двое русских, которые бы в первый раз встретились в Китае. О невежестве встречаем довольно свидетельств в «Собеседнике». Эти свидетельства нужно разделить на два рода: одни относятся к тем, которые не хотели знать литературы и науки, другие – к тем, которые сами пускались в писательство, но тоже умели доказывать свое невежество.
В отношении к первому роду невежд мы находим такого рода данные. Множество было людей, которые ни о чем больше говорить даже не умели, как только о собаках;[176] другие, имея претензию на высшую образованность, посвящали все свое время танцам, клавикордам или скрипке и разговорам о театре;[177] третьи заботились о том, «чтоб издавать наряды своим соотечественникам» и забавлять компанию разговорами, не заботясь о том, правду или нет говорить придется[178]. Таким образом, когда дело доходило до серьезных вопросов, то подобные господа решительно терялись. В XI-й части «Собеседника» помещено письмо одного священника, который говорит: «Недавно в немалом благородном собрании предложен был, между прочим, высокоблагородному важный вопрос: что есть бог? – и по многим прениям многие сего общества члены такие определения сей задаче изыскивали, что не без сожаления можно было приметить, сколь много подобных сим найдется мудрецов, за то одно не знающих святости христианского закона, понеже никакого о нем понятия не имеют»[179]. От этого бессилия перед вопросами, требующими серьезного размышления и положительных знаний, развился в то время и остался, кажется, надолго в употреблении у полузнаек особенный род остроумия, который хорошо очерчен в стихах г. X. X.[180]:
Не мыслить ни о чем и презирать сомненье;
На все давать тотчас свободное решенье;
Не много разуметь, о многом говорить;
Быть дерзку, но уметь продерзостями льстить;
Красивой пустошью плодиться в разговорах;
И другу и врагу являть приятство в взорах;
Блистать учтивостью, но чтя, пренебрегать;
Смеяться дуракам и им же потакать;
Любить по прибыли, по случаю дружиться;
Душою подличать, а внешностью гордиться;
Казаться богачом, и жить на счет других;
С осанкой важничать в безделицах самих.
Для острого словца шутить и над законом,
Не уважать отцом, ни матерью, ни троном;
И, словом, лишь умом в поверхности блистать,
В познаниях одни только цветы срывать;
Тот узел рассекать, что развязать не знаем, —
Вот остроумием что часто мы считаем.
Но у кого недоставало душевной наглости и для того, чтобы хоть так отделываться от вопросов, тот просто не допускал их в свою голову. А делалось это очень просто. Прибегали для того к карточной игре[181], к сплетням[182], к вину[183]. Иные от праздности придумывали еще лучшее занятие. Например, в «Картинах моей родни» тетушка для развлечения принимается ругать слуг, а муж ее, опасаясь, чтобы после того, как она всех перебранит, и ему не досталось, помогает супруге нападать и «продолжает всячески гнев ее на слуг, спасительный для него»[184]. Некоторые от нечего делать занимались гаданьем на картах[185], придавая, впрочем, ему серьезное значение. Если еще и теперь можно встретить верующих этому гаданью, то в то время их, конечно, было несравненно больше, судя по образчикам тогдашнего суеверия в других родах. Тогда, например, не верили врачебной науке и считали грехом лечиться: об этом говорит «Собеседник». В четвертой части находим рассказ о человеке, который ожесточен был против лекарств и еще более утвержден в своем предубеждении отцом игуменом на Перерве, куда он ездил молиться богу, – «его преподобие имел такое мнение, что всякий доктор должен быть неминуемо колдун и что весь корпус медиков есть не что иное, как сатанино сонмище, попущенное гневом божиим на пагубу человеческого рода»[186].
Общество, столь мало или столь превратно развитое умственно и нравственно, не могло, разумеется, отличаться сочувствием к литературе, – и это не раз замечено было в «Собеседнике», как дело весьма постыдное. В «Вечеринке» является один господин, который на вопрос, читал ли он «Душеньку», отвечал: «Не читал и не видал». – «Как – не видали?» – «Я думал, что ее когда-нибудь сыграют». – «Да это не драма, а сказка в стихах». – «А мне сказывали, что это комедия». – «Надобно знать, – прибавляет автор, – что господин этот выдает себя за человека просвещенного, за любителя наук и художеств»[187]. В письме к Капнисту сказано прямо, что «публика наша еще не очень охотно читает российские стихотворения (63):{39} ««Душенька» и многие другие сочинения в стихах лежат в книжных лавках непроданы, тогда как многие переведенные романы печатаются четвертым тиснением. Посему стихотворцы наши не могут еще без покровителей надеяться на одобрение публики»[188]. В последней книжке «Собеседника» описан один любитель чтения, который заставляет своего дворецкого читать себе книги, а сам в это время спит, по прочтении же отмечает своей рукой на книге: прочтена. «Зачем же вы это подписываете?» – спрашивают его. «А чтобы в другой раз не читать книги», – наивно отвечает он[189].
Но, выставляя на посмеяние подобных читателей, «Собеседник» не оставляет в покое и писак, которые пускались в литературу, особенно тех, которые писали по-русски французским складом. «Собеседник» сам иногда помещал у себя для смеху подобные произведения; но дорого стоила авторам их честь попасть в этот журнал. Над ними долго нещадно смеялись, разбирая по ниточке уродливые фразы их. Особенно досталось двум авторам; Любослову, который поместил в «Собеседник» свою критику[190] и на первую часть его, мелочную, правда, но большею частию справедливую, и потом «Начертание о российском языке»[191], и еще автору одного письма к сочинителю «Былей и небылиц»{40}, приложившему при этом письме и свое предисловие к «Истории Петра Великого»[192]. Первого осмеяли за мелочную придирчивость и за напыщенность выражения, второго – за то, что, «пишут по-русски, думая по-французски» и написал свое предисловие совершенно по-французски, только русскими словами. За это особенно нападает «Собеседник», и дело это действительно было важно для литературы. Даже Карамзин жаловался, как известно, на то, что русскому писателю негде взять образца для своего языка, потому что все образованные люди говорят по-французски{41}. Обычай этот, усиливаемый французским воспитанием и, в свою очередь, поддерживавший его жалкое влияние, был особенно распространен в то время, и нельзя не отдать должной справедливости издателям «Собеседника» за старание противодействовать этому злу. Осмеивая неуместное употребление французских фраз в обществе, они тем сильнее осмеивали тех, которые с подобною привычкой принимались писать по-русски. Об одном из подобных сочинений «здравомыслящий человек» говорит: «Мне кажется, все сие написано по-французски русскими словами; если вам угодно, я переведу все сие сочинение на французский язык, и, возвратя оное в первобытное состояние, оно более смысла иметь будет, нежели теперь в русских словах оно содержит. Автор же этот, хоть верхом или инако во французском шаре летать будет, пока по-русски не выучится, русским сочинителем не будет»[193].







