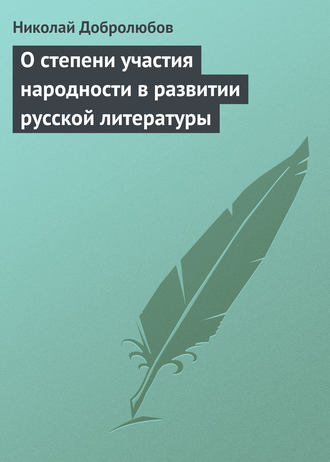
Николай Александрович Добролюбов
О степени участия народности в развитии русской литературы
Мы чувствуем, что читатели уже недовольны нами за то, что мы так долго останавливаем их внимание на предмете, не имеющем ни малейшего соотношения ни с одним из животрепещущих вопросов, волнующих современное общество. Мы знаем, что теперь, когда умы всех обращены к интересам первой важности – к отменению крепостного права, к гласности, злоупотреблениям между чиновниками, недостаткам воспитания и образования и т. п., – теперь немногие захотят заглянуть в статью, толкующую о вопросах литературных, не касающихся жизни. Знаем мы, что плохое время выбрали для своей скромной статьи, столь далекой от всех общественных вопросов. Но что же делать, если дело литературы так мило нам, – хоть нас и бранят за мнимое пренебрежение к ней, – если судьбы ее так нас занимают, что мы не умеем остановиться, раз заговоривши о ней. А говоря об ее исторических судьбах, что же могли бы мы сказать интересного для современных читателей, когда общественные вопросы до самого последнего времени были чужды нашей литературе, когда она держалась совершенно особняком и существовала «для немногих»? Впрочем, мы чувствуем, что оправдания наши очень неудовлетворительны, и, сознавая свою вину, постараемся окончить наши заметки как можно скорее, так как в дальнейшем развитии нашей литературы (нужно предупредить читателя) интересы, волнующие ныне общество, оставались почти в той же неприкосновенности, как было и до Петра.
Познакомившись с нравами и государственным устройством других народов, Петр увидел, как важно образование народное для блага целого царства. Поэтому постоянной заботой его было водворение в России образования по примеру Европы. Лучшим средством для распространения образованности он справедливо считал книги, и в его время письменность русская является решительно провозвестницею воли монарха для подданных. Он понял, что при заботе о просвещении народа необходимо призвать на помощь живое убеждение, и это убеждение распространял посредством книг. Всякое событие его царствования, всякий новый закон, новое распоряжение находили себе объяснение и оправдание в произведениях письменности. Так являются во время Петра книга «О причинах, какие имел он к начатию войны со шведами», «Правда воли монаршей о наследовании престола», множество регламентов, специальных книг по части инженерной, артиллерийской, морской и пр., наконец, «Ведомости», в которых в первый раз русские увидали всенародное объявление событий военных и политических. Все новые потребности, возбужденные Петром, непременно, по его же мысли и желанию, сопровождались книжными явлениями, которые таким образом служили разумным оправданием мер, принятых правительством. Почти все книги такого рода были изданы не частными людьми, а по распоряжению самого же правительства; но самая возможность писать о всяческих предметах, начиная с политических новостей и оканчивая устройством какой-нибудь лодки, расширила круг идей литературных и вызвала на книжную деятельность многих, которые в прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Замечательнейшим явлением в тогдашней письменности был, без сомнения, крестьянин Посошков, решившийся рассуждать самоучкой о вопросах политической экономии – о средствах умножить избыток в народе и отвратить скудость{22}. Не говоря о точке зрения Посошкова, которая, может быть, не совсем удовлетворит требованиям живой народной науки, заметим здесь только о том, как в этом случае простой здравый смысл русского человека сошелся с результатами, добытыми наконец в многолетних опытах и исследованиях людей ученых. Посошков принялся за рассуждения о богатстве народном просто потому, что этот предмет был к нему ближе всякого другого и проще для него; а между тем этот самый предмет составляет науку, служащую венцом всех так называемых общественных наук. Справедливость требует, впрочем, сказать, что Посошков, хотя и крестьянин, не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него: он занимал какую-то начальстзенную должность, и в его рассуждениях, вместо естественного побуждения прямых нужд народных, видны нередко разные административные виды. То, что в маленьких размерах приметно у Посошкова, в колоссальном виде выказалось у другого крестьянина, который, благодаря Петровой реформе, получил возможность выучиться разным наукам, побывал за границей и сделался тоже выходцем из своего сословия. Ломоносов сделался ученым, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он. Иначе, впрочем, и не могло быть в то время: хотя Петр и уничтожил китайскую стену, отделявшую до него боярина от окольничего, окольничего от думного человека и т. д., хотя он, признавши права заслуг и образования, дал всем простор идти вперед, но не могли же все вдруг приобресть образование и отличиться заслугами. Всего легче могли воспользоваться средствами образования опять-таки дети бояр, окольничих и т. п. Низшие сословия могли также высылать теперь на состязание своих избранных; но состязание во всяком случае было неровное, и эти избранные все-таки оставались едва заметными исключениями из целой массы. Если русская аристократия петровского времени не стала во главе целой нации по своей образованности и нравственному превосходству, то причина этого заключается, конечно, уж не в недостатке материальных средств, а просто в лени и неподвижности [разъедающем и отупляющем влиянии] нашего старинного барства. Впрочем, если не по умственным совершенствам, то по своему общественному положению [,по табели о рангах,] боярство все-таки завладело тогда литературою, и она, не сделавшись непосредственным достоянием высших классов, как была прежде достоянием духовенства, постоянно, однако же, употреблялась посредственно к их услугам. Мы говорим здесь о меценатстве, которое так распространилось у нас во времена после Петра и делало Россию отчасти похожею в некоторых отношениях на Рим времен империи и последних годов республики. Князь Кантемир, принадлежавший еще к веку самого Петра и притом сам аристократ, держался довольно независимо и по влечению сердца воспевал правительственные и общественные реформы Петра. Но Ломоносов имел уже своих милостивцев, в угоду которым сочинял разные «стиховные штуки», как говорил Тредьяковский. Ломоносов много сделал для успехов науки в России: он положил основание русскому естествоведению, он первый составил довольно стройную систему науки о языке; но в отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоластическая поэзия ограничивалась изображением «Орла российского» или сочинением аллегорического «Плача и утешения», в виршах Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, так точно и Ломоносова поэзия не шагнула дальше дидактического нравоучения да напыщенного воспевания бранных подвигов. Действительной жизни он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как низким слогом, которого должен избегать порядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле, рассказывая хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышенным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспевать только высокие явления жизни – взятие неприятельского города, отбитие у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюминацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений лучшие представители тогдашней литературы старались, так сказать, вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к [низким] предметам, касающимся быта простого народа, и в отношении к самому этому народу [к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу]. Ломоносов, правда, говорит иногда судиям земным, чтобы они блюлись от буйности и подданных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится так, en masse [3], в видах отвлеченной добродетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа. Так точно Сумароков восставал против невежества, спеси дворянской, взяточничества и т. п. и в то же время сочинял трагедии, в которых разные герои, владыки и их наперсники вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы. Те, против кого писал Сумароков грозные сатиры, слушали эти нелепости и хвалили, зная, что автор в милости у знатных особ; а простая публика, видя, что тут для нее ничего нет, преоткровенно грызла орехи во время представления. Тут уже Сумароков пришел в истинное негодование и от души высказал, что этот [«подлый] народ[«] не стоит чести смотреть трагедии российского Корнеля и Расина и что [сей подлый народ есть необразованная скотина, не признающая даже] таких авторитетов, как г. Вольтер и он, г. Сумароков. Но Сумарокову еще можно простить: у него уж такой нрав был: он всех ругал, сколько сил хватало, хотя сам и восхищался очень наивно своим чином и кавалерством. Можно, с другой стороны, простить и пресмыкание пред знатными какому-нибудь Тредьяковскому, которого можно было высечь за непоставку к сроку оды на маскарад: это уж был человек убитый; его так все и принимали за шута. О всех этих Петровых, Костровых и т. п. говорить нечего: они только и жили милостивцами, стараясь потешать их [невежество] то великолепной стиховной галиматьей, то собственной фигурой. Так, в Риме, после покорения им Греции, образованные рабы, гувернеры, пииты и вместе с тем шуты и полные невольники невежественных патрициев служили им своим умом, образованностью, ловкостью и вместе щеками и спиною. Учиться и работать считалось в тогдашнем Риме недостойным патриция; наука и работа признавались и в тогдашней России не дворянским делом. Высший класс выпустил из головы своей мысль об образованности и думал удержать ее в своих руках посредством подачек своим паразитам, торговавшим дарами просвещения. К удивлению, находим, что барам нашим проделка их удавалась очень долго. Г. Милюкову кажется, что Державин целым веком отделен от Ломоносова; но мы никак этого не находим. Державина сама императрица приняла под свое покровительство, но и тут не избавила его от необходимости отыскивать милостивцев, которых производил он и в геркулесы, и в гиганты, и чуть не в полубоги. Что же касается до взгляда на народ, его нужды и отношения, то Державин подвинулся немного со времен Ломоносова или даже Симеона Полоцкого.[4]
Восклицание, нужно признаться, не совсем гуманное, как и вообще произведения Державина, носящие на себе отпечаток то отвлеченной мертвой схоластики, то эпикурейских ощущений, не очищенных ни изящным вкусом, ни здравой мыслью, то придворного шутовства в духе нравов того времени. Нет, мы решительно не согласны с г. Милюковым, будто от Ломоносова до Державина совершилось какое-то громадное развитие в русской поэзии. Если развитие и было, то самое ничтожное, да и то скорее в отношении к внешности, к форме выражения, а уж никак не в отношении к развитию и расширению содержания. Как прежде воспевались отвлеченные добродетели и совершенства, так и теперь, только еще утомительнее. Ни одна из нравственных од Ломоносова не может поравняться величиною с подобными же одами Державина, из которых в иных нет ли, пожалуй, стихов до тысячи. Как прежде поэт падал ниц, в немом восторге, пред мужем брани, меряя свое благоговение числом людей, убитых под его начальством, так точно и теперь, – да еще восторженнее прежнего. Как прежде на всемирные события смотрели из маленькой форточки своего узенького окошечка с решеткой и меряли всю землю собственной четвертью, так и теперь круг зрения нисколько не расширился. Довольно привести один факт. Державин был кем-то обижен и написал «Оду на коварство». Через три года произошла французская революция; он приделал к своей «Оде на коварство» несколько строф и пустил ее в свет под названием: «Ода на коварство французского возмущения». Не удовольствуясь этим, он пришил к ней еще похвалу князю Пожарскому{23}. Такие воззрения существовали у русских поэтов прошедшего века!..







