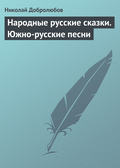Николай Александрович Добролюбов
Непостижимая странность
Примечания
Первая часть статьи была впервые опубликована в Совр., 1860, № 11, отд. III, с. 137–164. за подписью «Н. Т – нов». Вторая часть по была пропущена цензурой. Видимо, в связи с этим Добролюбов прекратил работу над третьей частью, и статья осталась неоконченной. В изд. 1862 г. вошел весь сохранившийся текст, с восстановлением значительных цензурных изъятий, сделанных в первой части статьи.
«Непостижимая странность» открывает «итальянский» цикл статей Добролюбова, возникших в связи с пребыванием его в этой стране с декабря 1860 по июнь 1861 г. Выехав за границу на лечение в мае 1860 г., Добролюбов провел там, переезжая из страны в страну, более года. То обстоятельство, что половину этого срока он прожил в Италии, несомненно объясняется притягательной силой происходивших там событий. 1859–1860 гг. стали решающим этапом в борьбе итальянского народа за национальное освобождение и объединение, начавшейся еще в конце XVIII в. В начале 1859 г. Италия была разделена на несколько государств, в большинстве из которых находились реакционные монархические режимы: Королевство Обеих Сицилии (Неаполитанское королевство), Папская область и ряд герцогств, правительства которых держались силой австрийского оружия. Только конституционная монархия Пьемонта (Сардинское королевство) пыталась проводить политику, направленную на национальное объединение, которого она рассчитывала достичь, используя противоречия между европейскими державами, путем постепенных территориальных приращений. Области Ломбардия и Венеция находились под властью Австрии. К концу 1860 г. почти вся Италия (за исключением Рима и Венеции) представляла собой единое независимое государство. Главной силой, совершившей этот грандиозный переворот в исторических судьбах Италии, явилось демократическое движение – народные восстания против феодальных монархий и героическая гарибальдийская эпопея, уничтожившая самый реакционный и обладавший наибольшей материальной силой режим в Королевстве Обеих Сицилии.
В России, как и по всей Европе, интерес к итальянским событиям был очень велик. По свидетельству современников, слухи о них проникли даже в те слои населения, которые никогда ранее не интересовались международной жизнью, и имя Гарибальди можно было услышать в разговорах «простонародья» (см. Мизиано К. Ф. Поход Гарибальди в оценке русских современников. – Новая и новейшая история, 1961, № 4). Не было, кажется, ни одного органа печати, который бы не касался на своих страницах итальянских событий. Для «Современника» они имели особое значение. На протяжении 1859–1860 гг. итальянские дела были главной темой раздела «Политика», который вел Н. Г. Чернышевский и в котором давалось не только точное и подробное изложение, но и наиболее глубокий анализ событий. Можно было бы ожидать, что Добролюбов станет «специальным корреспондентом» «Современника» в Италии. Однако статьи Добролюбова резко отличаются от «специальных» статей, посвященных итальянским событиям, хотя осведомленности Добролюбова позавидовал бы любой специалист. Итальянские события, как ранее события русской жизни или произведения отечественной литературы, служили Добролюбову материалом для разработки его постоянных тем, самой важной из которых – «народ и революция» – посвящена настоящая статья.
«Непостижимая странность» – одна из самых необычных статей Добролюбова. В самом деле, может показаться странным, что страстный революционер, явившись в страну, где только что совершилась революция, где еще кипят политические страсти, запасается кипой хотя и не старых, но в большинстве своем уже устаревших брошюр и пишет статью, внешне напоминающую реферат добросовестного первокурсника на заданную тему. И эта огромная, тяжеловесная и вроде бы неактуальная статья производит впечатление, которого не оставляют даже такие яркие, проникнутые революционной романтикой статьи, как «Луч света в темном царстве» и «Когда же придет настоящий день?», – впечатление торжественного победного гимна. Причина этого впечатления заключается в том, что вся эта масса более или менее авторитетных мнений о невозможности народной революции в Неаполитанском королевстве уже заранее опровергнута совершившимся фактом. И чем больше людей высказывало это мнение, чем различнее были их исходные позиции, тем весомее становится значение этого факта. А с другой стороны, тем очевиднее, что приведены они вовсе не для того, чтобы обнаружить недальновидность, некомпетентность или партийную пристрастность тех или иных конкретных людей. Конечно, Добролюбов испытывает удовольствие, сталкивая самоуверенные заявления какого-нибудь Ж. Гондона или виконта Лемерсье с фактом свержения Бурбонов, по не в этом главный источник его торжества. Пока он приводил высказывания о характере неаполитанского народа, можно было думать, что статья написана с целью выставить этих авторов на посмешище. Но затем Добролюбов перестает скрываться за спинами «авторитетов» и сам берет слово. Он обстоятельно доказывает, что политическая система в Неаполитанском королевстве полностью исключала проникновение в народ либеральных идей.
Таким образом, Добролюбов противопоставляет факту итальянской революции не только расхожие суждения о характере народа (такие суждения всегда более или менее субъективны), но и вполне реальное, хотя и несколько преувеличиваемое Добролюбовым, отсутствие тех внешних факторов, которым было принято приписывать возникновение революций. В странах с развитой политической жизнью революции ни для кого не являются «непостижимой странностью», так как всегда есть возможность объяснить их пропагандой либералов, направлением литературы и т. п. События в Италии не давали такой возможности. Неаполитанская революция для Добролюбова – редкий по своей «чистоте» и близости к историческим условиям России «эксперимент», опровергающий представление «благомыслящих», довольных общественными порядками людей, будто революция – случайность, результат всякого рода внешних влияний. С другой стороны, события на юге Италии блестяще подтвердили то, во что страстно верил Добролюбов, но чему еще не давала подтверждений русская жизнь, – что именно народ, забитый, невежественный, внешне покорный и даже привязанный к своим монархам, а не благополучное «образованное» общество, способен совершить коренное преобразование жизни. Эти события превратили горячую надежду Добролюбова на крестьянскую революцию в непоколебимую уверенность. Эта уверенность сообщила особое торжественное звучание статье и передалась читателям. «Статью Добролюбова мы поняли в том смысле, что и русский престол может быть взорван», – писал впоследствии один из представителей тогдашнего молодого поколения, признававшийся, что эта статья имела на него «особенно долговременное влияние» (Николадзе Н. Я. Воспоминания о шестидесятых годах. – В кн.: Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986, с. 301–302).