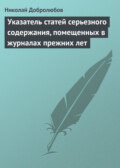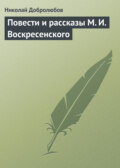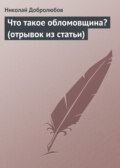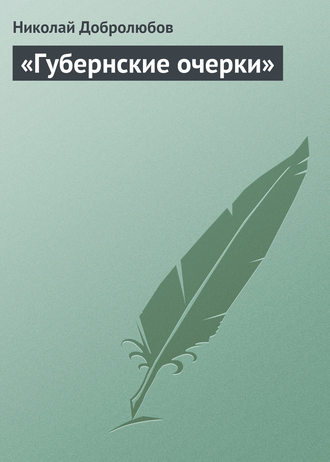
Николай Александрович Добролюбов
«Губернские очерки»
Да звучит твой стих обронный,
Правды божией набат,
В пробужденье мысли сонной,
В кару жизни беззаконной,
На погибель всех неправд{7}.
Борьба во имя высшей правды против мелких интересов времени! – восклицали высокообразованные критики. «С первых лет жизни, при самой начальном воспитании, должно приучать к этой борьбе, которая ожидает в нашем обществе каждого порядочного человека!..» – «Наука должна смело вступить в борьбу против невежества и предрассудков», – говорили лучшие из наших ученых{8}. «Мы должны благодарить войну за то, что она открыла нам многие темные стороны нашей жизни, против которых мы дружно должны идти теперь, отстаивая честь родины!..» Эти мощные, благородные, бескорыстные призывы не могли не находить отзыва в сердцах людей, сочувствующих благу отечества, и точно – у многих, сердце билось сильнее от этих вдохновенных звуков. Многие с грустной улыбкой, даже со слезами на глазах выслушивали русскую всенародную исповедь, но потом гордо поднимали голову, давая торжественный обет деятельности честной, неутомимой и безбоязненной. Были и такие, силою обстоятельств и собственной слабостью увлеченные в пошлость жизни, которые с ужасом смотрели на собственное поприще и с горечью сознавались в его гадости. И что имели в виду все эти люди? Что заставляло их с таким увлечением подвергать себя торжественному самообвинению? Ничего особенного. Они просто повторяли слова одного из своих глашатаев:
Раскаянья слеза нам будет в облегченье
И к новым подвигам нас мощно воззовет, —
и добродушно верили, что вслед за словом не замедлит явиться и дело. Самое пустозвонство приняло тогда характер серьезно-обличительный. Пустейший из пустозвонов, г. Надимов, смело кричал со сцены Александрийского театра: «Крикнем на всю Русь, что пришла пора вырвать зло с корнями!» – и публика приходила в неистовый восторг и рукоплескала г. Надимову, как будто бы он в самом деле принялся вырывать зло м корнями…{9} «Что смеетесь? над собой смеетесь», – вслух припомнил слова Гоголя кто-то из скептиков во время одного из представлений «Чиновника». Но эти слова никого не смутили: на скептика соседи его посмотрели так гордо и прямо, как будто бы хотели ответить ему словами того же комика: «Да, над собой смеемся, потому что слышим благородную русскую нашу породу, потому что слышим приказанье высшее быть лучшими других»{10}.
Так все оживало, все воодушевлялось желанием идти вперед по пути просвещения и нравственного усовершенствования. Два года тому назад человек сторонний, услышавший эти клики, увидавший это движение, непременно подумал бы, что это пробуждение исполина, который после продолжительного сна расправляет свои члены, приводит в порядок свои мысли и готовится искупить свое долгое бездействие подвигами изумительного величия. И такое предположение было совершенно естественно. Чистые, возвышенные стремления общественных и литературных деятелей казались так мощны, быстры и кипучи, что они должны были идти вперед неудержимо, разрушая все преграды, поставляемые невежестом, смывая все нечистоты, произведенные в русской жизни силою эгоизма, корысти и лени общественной. Сердца бились тогда сильно и радостно, в полном убеждении, что сознание недостатков есть уже половина исправления и что русский человек ничего не любит делать вполовину. Святотатством сочли бы тогда, если бы кто осмелился утверждать, что этот Илья Муромец, столько лет сидевший сиднем на одном месте, поднялся теперь только затем, чтобы толчись на одном месте. Напротив, он должен был безостановочно идти вперед, наслаждаясь жизнью и совершая славные дела. И все ждали этих подвигов, все были в напряженном ожидании чего-то великого, необычайного. Все принимало вид какого-то торжественного приготовления, точно накануне великого праздника:
И вились тогда толпою
Легкокрылые друзья:
Юность легкая с мечтою
И живых надежд семья…{11}
Отрадно было то время, время всеобщего увлечения и горячности… Как-то открытее была душа каждого ко всему доброму, как-то светлее смотрело все окружающее. Точно теплым дыханьем весны повеяло на мерзлую, окоченелую землю, и всякое живое существо с радостью принялось вдыхать в себя весенний воздух, всякая грудь дышала широко, и всякая речь понеслась звучно и плавно, точно река, освобожденная ото льда. Славное было время! И как недавно было оно!
Но прошло два года, и хотя ничего особенно важного не случилось в эти годы, но общественные стремления представляются теперь далеко уже не в том виде, как прежде. Много разочарований испытали уже мы на новой дороге, многие надежды оказались пустыми мечтами, много видели мы явлений, способных сбить с толку самого простодушного из оптимистов, вообще отличающихся простодушием. И нет прежнего увлечения, прежнего задушевно-гордого тона…
Где девалася
Речь высокая,
Сила гордая?{12}
Разговоры и теперь, конечно, продолжаются, и мы вовсе не хотим сказать, чтоб общественное внимание вовсе забыло о тех вопросах, которые недавно возбуждены были с такой энергией. Мы говорим только, что в деятельности, в жизни общества мало оказывается результатов от всех восторженных разговоров, чем и доказывается, что большинство наших доморощенных прогрессистов играло до сих пор, по выражению г. Щедрина, «не внутренностями, а кожей».
Литература продолжает свое дело добросовестно: служение делу общественного совершенствования она считает своим священнейшим назначением. Она уже навсегда теперь вышла из пеленок, и что бы ни случилось, не получат в ней теперь права гражданства ни швейцарские поздравления с высокоторжественным праздником, ни лакейские оды на пожалование такого-то господина таким-то чином, ни трактирные дифирамбы в честь какого-нибудь праздника с фейерверком и иллюминацией. Литература деятельно продолжает свои обличения, свои вызовы на все хорошее и благородное; она по-прежнему твердит обществу о честной и полезной деятельности, она все поет ту же песню:
Встань, проснись, подымись,
На себя погляди!{13}
Но уже нет прежних восторженных отзывов со стороны публики. Она уже утомилась, она уже едва ли не считает свое дело конченным, едва ли не, считает себя достойною венка за участие, оказанное общественным вопросам и новым деятелям литературного обличения. Только по временам вспыхивает теперь кое-где, неровно и порывисто, огонь одушевления, похожего на прежнее. Но и эти вспышки скоро пропадают без следа, не имея никакого влияния на общественную деятельность. Оказывается, что увлечения и надежды были преждевременны и что многие из людей, горячо приветствовавших зарю новой жизни, вдруг захотели ждать полудня и решились спать до тех пор; что еще большая часть людей, благословлявших подвиги, вдруг присмирела и спряталась, когда увидела, что подвиги нужно совершать не на одних словах, что тут нужны действительные труды и пожертвования. Все нетерпеливо ждали, желали, просили улучшений, озлобленно кричали против злоупотреблений, проклинали чужую лень и апатию, но редко-редко кто принимался за настоящее дело. Испуганные воображаемыми трудностями и препятствиями, многие из тех, кто даже мог делать истинно полезное, —