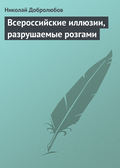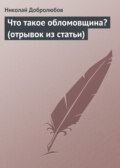Николай Александрович Добролюбов
Деревенская жизнь помещика в старые годы
Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человека, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую оброк. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостаивает их наклонения своей головы, когда они, по восточному обыкновению, пред ним по земле распростираются. Он тогда думает: «Я господин, они мои рабы; они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора». В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем, что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное; но говорят: «Это не мое, но божие и господское!» Всевышний благословляет их труды, а Безрассуд обирает их! Безрассудный! разве не знаешь ты, что между твоими рабами и человеками гораздо более сходства, нежели между тобою и человеком? Вообрази рабов твоих состояние: оно и без отягощения тягостно. Когда ж ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения, то подумай, как должны гнушаться тобою истинные человеки!
Заключением этой статьи служит «Рецепт», в котором Безрассуду предписывается как средство для излечения от безрассудства – упражнение в рассматривании костей господских и крестьянских до тех пор, пока он найдет между ними различие («Живоп.», ч. I, стр. 140).
Что подобные «безрассудства» не вымышлены «Живописцем», а действительно существовали, очевидно из фактов, уже представленных нами, и множества других, которые мы могли бы представить из записок современников. Данилов, например, рассказывает один случай из своего отрочества («Записки Данилова», М., 1842, стр. 42–44), фактически доказывающий, как смотрели иные помещики на крестьян. Данилов был одно время в деревне у родственницы своей, какой-то вдовы, у которой был племянник Ванюша. Раз этот племянник затащил Данилова и еще одного «молодого слугу» тихонько обивать яблоки. Но как те не хотели приниматься за это, то он один управился с яблонью. Тетушке донесли о таком поступке; она велела призвать виновных и, в страх племяннику, велела «поднять слугу на козел, и секли его очень долгое время немилостиво». Племяннику же сделали выговор. О той же вдове Данилов рассказывает, что она, каждый день решительно, призывала во время обеда кухарку и тут же, в столовой, приказывала сечь ее: «И потуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать; это так уж введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетита» (стр. 43). В таких развлечениях нельзя не видеть той самой мысли, какую подметил «Живописец» у Безрассуда.
Интересно видеть, как произвол и грубость в обращении с своими подвластными переходили в старину у помещиков и в их собственные семейные отношения. Степан Михайлович, привыкший, чтобы его трепетали в поле, на гумне, на мельнице, не мог уже не требовать страха и трепета и от домашних. Свою Арину Васильевну он таскал за косы так, что она по целому году с пластырем на голове ходила. Дочери боялись и почитали его как своего господина, а не как отца. Отсутствие живых семейных связей и тупая покорность перед силой очень ярко выразилась в семействе Багровых после смерти дедушки. Описание сцен, последовавших за смертью Степана Михайловича, принадлежит к числу самых живых и интересных страниц «Детских годов» г. Аксакова. Любопытно, как относятся теперь мать и старшие сестры к Алексею Степановичу и к невестке, которую прежде столько преследовали. Старуха мать не смеет сесть за стол, пока не явится младший сын, ставший теперь хозяином в доме. Напрасно невестка ее упрашивает не дожидаться; старуха отвечает: «Нет, нет, невестынька: по-нашему не так, а всяк сверчок знай свой шесток». Когда сын входит, она встает и идет к нему навстречу с поклоном, а сестры даже падают в ноги брату с вытьем и просьбами – не оставить их. Потом с теми же униженными просьбами обращаются к невестке, как хозяйке в доме. Сцены эти могут некоторым нравиться, как живой памятник патриархальных отношений домочадцев к владыке дома. Но мы, признаемся, не видим в них ничего, кроме чрезвычайной неразвитости и спутанности нравственных понятий и кроме привычки – быть под началом, при отсутствии всяких духовных связей любви и истинного уважения. Интересно, как выражается за обедом печаль по только что умершем главе семейства. «За столом все принялись так кушать, – говорит г. Аксаков, – что я с удивлением смотрел на всех». Между прочим, одна из дочерей покойника, разливая уху и накладывая всем груды икры и печенок, просила покушать их в память того, что батюшка-то любил их. И при этом слезы капали у ней в тарелку. Несмотря на то, она, как и другие, кушала с удивительным аппетитом. После обеда же все отправились спать и проспали до вечернего чая. В девятый день опять был обед, и тут уже все были спокойны, пока не подали блинов. Но как только явились на стол блины, все принялись кушать их со слезами и даже с рыданиями. Это выражение любви посмертное. А вот что было при жизни. Во время житья в Багрове, уже после смерти дедушки, Сережа зашел в один амбар, отделенный для тетушки Татьяны Степановны, оставшейся незамужнею и жившей при родителях. Там увидел он сундучки, ларчики, ящики, посуду, даже бутылки с новыми пробками и, наконец, кадушку с колотым сахаром. Он обратился за объяснением такого странного явления к своей няне Параше, и та, увлеченная благородным негодованием, объяснила, что барышня все это потихоньку натаскала у покойного дедушки, а бабушка ей потакала. Такова была семейная нравственность, таковы отношения между людьми, в сущности не злыми и но бесчестными. Г-н Аксаков замечает (в «Семейной хронике»), что вообще, несмотря на свой трепет пред Степаном Михайловичем, и жена и дочери пользовались всяким удобным случаем надуть его и постоянно с ним хитрили. Этого, разумеется, и следовало ожидать от людей, которые связываются между собою единственно узами страха и из которых один привык своевольно распоряжаться, а другие – бессловесно и неразумно трепетать пред его волей.
Впрочем, и эти покорные существа имели свою сферу, в которой являлись уже сами распорядительницами. Во владении бабушки Арины Васильевны находился свой особый мир деревенских девок и девчонок. Г-н Аксаков рассказывает одну из сцен бабушкина управления, которой ему привелось быть свидетелем. После смерти мужа Арина Васильевна, уже ослабевшая и отставшая от хозяйства, занималась главным образом пряжей козьего пуха. Множество девочек, сидя вокруг нее, должны были выбирать волосья из клочков козьего пуха. Если выбрано было нечисто, то бабушка бранилась. Один раз бабушка сидела таким образом за пряжей и весело разговаривала с внучком, следовательно, была в самом шелковом расположении духа, когда одна девочка подала ей свой клочок пуху, уже раз возвращенный назад. «Бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку» (стр. 269). Внучек был возмущен этим зрелищем и убежал от него; но для бабушки это была обыкновенная семейная расправа: на то уж и плетка лежала под подушками. Это даже не было, собственно, назначено для дворовых и крестьянских девчонок; справедливость требует сказать, что и с родными детьми такие потасовки были тогда не в редкость. Руки, привыкшие к размашистому управлению, требовали и в семействе такой же деятельности, как на господском дворе и запашке. Не только у таких людей, как старики Багровы, но и у более кротких господ воспитание детей шло постоянно с помощью собственноручной расправы. Болотов, например, рассказывает о своей матери, что она была весьма кроткая и разумная женщина. О ее кротости, даже трусости свидетельствуют многие обстоятельства в записках Болотова. Когда, например, один сосед подал на нее в суд жалобу, что к ней в именье убежала когда-то его крепостная баба и вышла там замуж за крепостного Болотовых мужика, то мать Болотова крайне перепугалась, собрала домашнее совещание, и, убедившись, что соседа требование правое, что он свою бабу требовать назад во всякое время и по всем законам может, помещица решилась стараться только об одном: склонить соседа к миру, хотя бы и с большими уступками с ее стороны. Другое обстоятельство: Болотова свихнула себе ногу оттого, что очень скоро побежала и как-то второпях неловко повернула ногу при вести о приезде в дом ее брата, который известен был крутым своим нравом. И эта столь боязливая и нерешительная женщина находила, однако же, силы собственноручно наказывать сына. «Нередко случалось, – говорит Болотов (стр. 105), – что она, поставив меня в ногах у своей кровати, предпринимала меня всячески тазать и иногда продолжала тазанье таковое с целый час времени». Как она обращалась с своими людьми, Болотов не упоминает; но об этом можно догадываться из его же слов, что «ее легко было подвигнуть на гнев, и в сем случае должны были все молчать и повиноваться ее воле». Подобных лиц и случаев можно было бы привести множество из разных сочинений, относящихся к тогдашнему быту; но предмет этот так общеизвестен, что распространяться о нем, кажется, нет надобности.