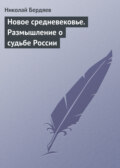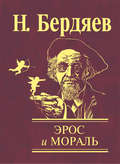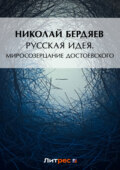Николай Бердяев
Дух и реальность
2
Неточно было бы сказать про человека, что он есть дух. Но можно сказать, что он имеет дух. Только в Боге совершенно исчезает различие между «быть» и «иметь». Человек не есть еще то, что он имеет. Он имеет разум, но не есть разум, имеет любовь, но не есть любовь, имеет качество, но не есть сущее качество, имеет идею, но не есть сама идея. Задача реализации человеческой личности в том, чтобы быть тем, что имеешь, чтобы определялся человек не по тому, что он имеет, а по тому, что он есть. Быт есть реальность, реализация, иметь же, быть собственником чего-либо есть лишь знак и символ. Социализм можно было бы определить как переход в социальной жизни от знаков к реальностям, переход от того, чтобы иметь что-нибудь (собственность), к тому, чтобы быть чем-нибудь. Смысл социализма в освобождении человека от накопления и сбережений, т. е. от фикций и знаков мощи, которым не соответствует ничего реального в человеке и которые калечат жизнь. Но таково идеальное задание, на практике социализм легко приобретает условно-знаковый характер, например, в русском коммунизме. Человек имеет дух, но он должен стать духом, быть духом, воплощенным духом. И это происходит в человеке, когда он в духе, когда им овладевает дух. Что значит «иметь» дух и «быть» духом? Окончательно «быть» духом есть теозис, вхождение в Божественную жизнь. Дух от Бога. И когда человек «имеет» дух, когда он в духе, то это значит, что дух входит в него, вдохновляет его. И потому существует неразрывная связь между духом и вдохновением, т. е. творческим состоянием. Проблема творчества есть основная проблема новой духовности. Но, в сущности, духовность всегда есть творчество, ибо признаком духа является свобода и активность. В творчестве есть два элемента – элемент благодати, т. е. вдохновения свыше в человеке, обладание человеком гения, дара, и элемент свободы, ни из чего не выводимой и ничем не детерминированной, которым определяется новизна в творческом акте. Творчество есть не только взаимодействие человека с миром, но и взаимодействие человека с Богом. Человек как бы передает миру свой разговор с Богом. Но всегда действуют два, не один, всегда есть встреча. Монизм во всех областях есть ложная и бесплодная точка зрения. Творчество не может быть выведено из бытия, понятого как единое. Можно было бы сказать, что творящий имеет характер духа, а творимое характер бытия. Это понимал Экхарт, несмотря на свой монистический уклон. Творит всегда дух. Всякое творческое изменение в мире происходит от вторжения духа, т. е. свободы, т. е. благодати, в бытие. Если возврат души к единству с Богом не означает единства по природе и субстанции, то потому лишь, что дух не есть природа или субстанция. В более тонком смысле нужно сказать, что дух не только не есть природа или субстанция, но не есть и бытие, ибо свобода не есть бытие. Система мысли, для которой все детерминировано вечным бытием, все из него вытекает, есть неизбежно статическая система, для нее непонятны свобода, изменение, новизна, творчество, как непонятно и зло. Этому противоположна точка зрения, для которой кроме бытия, введенного в круг детерминации, есть еще свобода, находящаяся вне круга детерминации, т. е. вне бытия. С этим связано и иное понимание духа и духовной жизни. При этом становится невозможным понимать духовную жизнь иначе, как жизнь творческую. Отрицание в прошлом того, что творчество принадлежит духовности, означало лишь, что духовность была введена в детерминированную и замкнутую систему бытия. Дух был поставлен между двумя возможностями – соединиться с божественной силой или с силой тьмы. И сила божественная, и сила тьмы представлялись как бы завершенными, застывшими системами бытия. Но в действительности и самая божественная жизнь может быть понята динамически, как борьба, как драматическая судьба. Тогда бросается иной свет и на духовность. Это есть проблема отношения созерцания и активности.
Мистика в прошлом всегда понималась как созерцание. Блаженное созерцание описывалось как последний этап мистического духовного опыта. Созерцание и было мистической пассивностью, исключительной рецептивностью. Созерцатель есть зритель, а не активный участник драмы. Активность мистического созерцания связывалась лишь с аскетическим очищением. Но созерцание не мыслилось как возможное изменение в самом созерцаемом. В таком случае созерцание предполагает вечный, замкнутый, завершенный круг бытия, в который ничто не может ворваться и из которого ничто не может вырваться. И весь вопрос в том, в какой мере такое созерцаемое бытие есть продукт мысли, результат переработки сознанием. Тут мысль и сознание активны, но закрепление результатов этой активности делает человека пассивным созерцателем. Освободившись от объективации продуктов мысли, которая и ставила перед созерцателем статическое бытие, человек начинает понимать, что отношения между человеком и бытием, между человеком и Богом суть отношения активно-творческие, и в этом и заключается духовность, которая есть прорыв свободы. В духовной жизни, бесспорно, есть созерцание, но это созерцание есть момент творческого пути, самое созерцание есть одна из форм творчества. От созерцания меняется созерцаемое бытие. Творческий ответ человека на призыв и вопрошание Бога есть изменение не только в человеческой жизни, но и в самой божественной жизни. Так совершается богочеловеческая драма. Созерцание и активность не должны противополагаться друг другу как взаимоисключающие начала. В активном духе есть моменты созерцания, как выхода из нашего времени, но и самое созерцание должно быть понято в своей активности. Эта проблема приобретает особенную остроту вследствие актуализма нашей эпохи. Этот актуализм, порожденный технической цивилизацией, в сущности, означает не активность, а пассивность человеческого духа. Человек пассивно подчиняется ускорению времени, требующего от него максимальной активности, как функции технического процесса, а не как целостной личности. Эта активность разрушает личность, целостный образ человека. Это сопровождается совершенной духовной пассивностью, замиранием духа и духовности. Созерцание же является активностью духа, сопротивлением человека по отношению к истерзывающему его процессу технического актуализма. Это связано с отношением времени и вечности, с возможностью пережить мгновение, выходящее из потока времени. Мгновение должно быть не атомом времени, а атомом вечности, говорит Киркегард. Творческий активизм всегда означает прорыв объективации, детерминирующей всю жизнь человека. Но современный технический актуализм означает как раз окончательное подчинение человека объективации, он не знает свободы, не знает духа. Дух при этом понимается как эпифеномен, продукт материального технического процесса. Дух оказывается поставленным между пассивным созерцанием прошлого, отрицанием творчества и актуализмом современной технической цивилизации, отрицающей самый дух и духовность. Это и ставит проблему новой творческой духовности, которая преодолевает и пассивное созерцание прошлого, и пассивный актуализм современности. Творческая духовность должна быть так же обращена к вечности, как и великая духовность прошлого, но она должна и актуализировать себя во времени, т. е. изменять мир. Под творческой активностью духа я понимаю не создание лишь продуктов культуры всегда символических, а реальное изменение мира и человеческих отношений, т. е. создание новой жизни, нового бытия. Это означает преобладание профетизма над ритуализмом в духовой жизни. Это означает также, что искание истины и правды преобладает над исканием пассивных экстазов. Это ставит нас перед вопросом об отношении духовности к социальной правде.
3
Совершенно ошибочен дуализм, резко разделяющий духовную и социальную жизнь. Не только социальная жизнь в ее целом, которая ведь объемлет отношение человека к человеку, но и экономика, которую считают материальной по преимуществу, есть продукт духа. Только дух активен, материя же пассивна. Хозяйство есть результат борьбы человека с природой, т. е. активности человеческого духа. Социальная жизнь целиком зависит от духовного состояния людей. От разных форм духовности зависит характер человеческого труда и отношение человека к хозяйству. В этом отношении многое выясняют работы Макса Вебера, Трельча, Зомбарта, де Мана. Но тут есть и обратная сторона. Духовная жизнь людей претерпевает влияние социальной жизни, на формах духовности опечатлеваются формы социальные, и это вплоть до понятия о Боге, до догматических формул. Формы духовности очень связаны с формами человеческой кооперации, с отношением человека к человеку. Христианство может меняться не потому, что меняется откровение, т. е. то, что идет от Бога, а потому, что меняется человеческая среда, воспринимающая откровение. Христианство может восприниматься гуманизированной средой и может восприниматься бестиальной средой. А эта среда зависит от социальных отношений людей. Когда в социальной жизни отношения между людьми волчьи, когда человек угнетает и эксплуатирует человека, то от этого меняется и духовная жизнь людей, меняется даже богопознание. Человеческое познание зависит от ступеней общности людей, от форм их кооперации, от характера человеческого труда. В этом отношении у Маркса была большая правда, но искаженная основной его ложью по отношению к духу. Маркс в справедливой реакции против отвлеченного идеализма сначала как будто хотел применить дух к социальной области, но потом начал совсем отрицать дух. Маркс был прав, когда учил, что основой исторического процесса является борьба человека, соединенного с человеком, т. е. социального человека, со стихийными силами природы. Но он почему-то вообразил, что это есть материалистическое понимание исторического процесса, в то время как борьба эта, как и всякая человеческая активность, есть борьба духа, и результаты ее зависят от состояния духа. Когда Маркс говорит, что дух и духовность определяются экономикой, то это может иметь лишь один смысл – обличение зависимости духа от экономики, как рабства и лжи. И он прав в своих обвинениях. Но сказать, что экономика может породить дух и духовность, значит сказать нелепость, которая никогда не была продумана марксистами до конца. Дух не может быть эпифеноменом, он изначален, он есть свобода. Эпифеноменом экономики может быть лишь ограничение и искажение духа и духовности. Классовые интересы могут породить ложь, но никогда не могут породить истины. Отношения между духовностью и социальной жизнью могут быть определены в такой форме: зависимость духовности от социальной среды есть всегда ее извращение и искажение, есть всегда рабство духа и символическая ложь, истина же, правда, справедливость, свобода есть результат активного действия духа на социальную среду и социальные отношения людей. И если дух пассивен в отношении к социальной жизни, к социальным отношениям людей, если духовность совершенно отрешается от социальной жизни и покорна социальным формам, как данности, то этим искажается самая духовность, замутняется и порабощается. Формы аскезы в прошлом в очень сильной степени зависели от социального строя, от социальных отношений людей и форм труда. Формы аскезы иные при натуральном хозяйстве, при существовании рабства и крепостного права или при капиталистическом хозяйстве и индустриальном пролетариате, и они, вероятно, будут еще иные при социалистическом хозяйстве. Недопустимо, например, проповедовать пост голодному. Дух должен активно реагировать на социальную среду, но внутренне он от нее не зависит, ибо по самому своему определению он есть свобода и вне детерминации. Детерминация всегда означает лишь недостаточную духовность, недостаточную пробужденность духа, недостаточную очищенность и освобожденность. Материализм принял рабство духа за сущность духа, болезнь за нормальное состояние. Именно выделение духовности в отдельную, отвлеченную сферу и материализировало земную жизнь и самую жизнь церкви. Источник материализма духовный.
Отделение духовности от полноты жизни привело к тому, что материальность стала господствовать над человеческой жизнью. Это и привело к царству буржуазности в духовном смысле слова. От этой буржуазности не спасет и социализм, если он будет отделен от духовности, он даже может ее закрепить. Царство буржуазности, отделенное от духа, стоит под знаком власти денег. Деньги и есть сила и власть мира, отделенного от духа, т. е. от свободы, от смысла, от творчества, от любви. Есть два символа – символ хлеба и символ денег, и две мистерии – мистерия хлеба, мистерия евхаристическая, и мистерия денег, мистерия сатаническая. И стоит великая задача – опрокинуть правительство денег и создать правительство хлеба. Деньги разделяют дух и мир, дух и хлеб, дух и труд. Деньги направлены прежде всего против целостной духовности, охватывающей всю жизнь человека. Отрешенная от полноты жизни духовность оправдывает власть денег, изменяет символу хлеба. В символе хлеба дух соединяется с плотью мира. Мир, отрезанный от духа, стоит под символом денег. Царство денег и есть царство объективации. Символ же хлеба возвращает к подлинному существованию. Царство денег есть царство фикций, царство хлеба есть возврат к реальностям. Социализм борется против царства, стоящего под символом денег. Но если социализм будет отрезан от духа и духовности, то он неизбежно приведет к царству денег. Царство денег есть царство князя мира сего, царство буржуазности. Таким может быть и социалистическое царство, если социализм не соединится с духовностью. Только духовность, т. е. свобода, т. е. любовь, т. е. смысл, действительно противостоит буржуазному царству денег, царству князя мира сего.
В прошлом, христианства не раскрылась еще целостная духовность, как не раскрылась целостная человечность. Не было целостной духовности потому, что духовно не была решена проблема человеческого труда, связывающая человека с жизнью космической. Духовность была отвлечена в особую сферу, отделенную от проблемы труда, от проблемы тела и его нужд, которая решалась в совершенной отделенности от всякой духовности, в противоположении духовности. И этим путем менее всего, конечно, могла быть достигнута целостная человечность. Мир буржуазно-капиталистический создавался в совершенной отделенности, отрешенности от духа и духовности, в крайней объективации, т. е. выброшенности вовне человеческого существования. Но и мир социалистический продолжает существовать в отделенности, отрешенности от духа и духовности, часто даже во вражде к духу. То, что Маркс называл отчуждением человеческой природы в капиталистическом хозяйстве, я и называю объективацией, превращением в объект. Но это отчуждение, эта объективация могут продолжаться и в социалистическом обществе, если оно будет против духа, если оно будет организовывать мир вне духа. Новая духовность стоит перед задачей преодоления непереносимого дуализма, разделяющего и раздробляющего человеческую природу. Старая духовность хотела знать борьбу со злом и с властью стихийной природы над человеком лишь через аскезу. Новое сознание, оторвавшее себя от духовности, хочет бороться со злом и с властью стихийной природы над человеком лишь через технику и техническую организацию жизни. Противоположение аскезы и техники разрывает целостную человеческую природу, делает духовность отвлеченной и бессильной в борьбе, а технику и организацию превращает в бездушное царство. Отрицание духовности есть отрицание человека, как образа Божьего в человеке, но отрицание значения техники, социальной борьбы и организации ведет к отрицанию и унижению человека, к рабству и покорности злу. С этим связана проблема новой духовности, которая соединяет созерцание и активность, духовную сосредоточенность и борьбу. Совершенно ложно строить духовную жизнь на старом противоположении «духа» и «плоти». У Апостола Павла это означает противоположение нового и ветхого человека. Новый человек, человек «духа», совсем не отрицает «плоть», если под «плотью» не понимать просто грех, – он стремится к овладению «плотью», к ее просветлению и преображению, т. е. к духовной плоти. С этим связано и иное отношение к социальной и космической жизни, иное отношение к трудовому процессу, от которого не может быть отделена духовность. Труд не есть только аскеза, труд есть также техника и строительство, есть жертва и борьба, внедрение человека в космическую жизнь, труд есть также кооперация с другими людьми, общение людей. И этот трудовой процесс имеет глубочайшую связь с духовностью, он меняет характер духовности, делает ее более целостной. В этом связь духовности и социальности. В мире должна образоваться духовность, христианская духовность, которая может быть названа социалистической, коммюнотарной, но которая прежде всего персоналистическая, так как в основании ее лежит отношение человека к человеку, к ближнему, ко всякой конкретной человеческой личности. Эта духовность будет бороться против тирании общества над человеческой личностью, она признает священные права человека на интимную жизнь и даже на одиночество. Признание форм духовности первоосновой форм общности и общества переносит центр тяжести в выработку человеческого характера, в повышение человеческого качества.
4
Книга эта написана о Духе, а не о Святом Духе, это книга философская, а не богословская. И я не предлагаю говорить о догматических вопросах, связанных с учением о Духе Святом. Но все-таки проблема о Духе Святом и об Его отношении к Духу вообще существует для мысли христианской, и она центральна. Христианство пневмацентрично. Пневма, Дух – носитель и источник профетического вдохновения в христианстве. Христианству глубоко присущ скрытый параклетизм, и всегда была христианская надежда, что параклетизм раскроется, что будет новое излияние Духа Святого в мире. О. С. Булгаков верно говорит, что нет личного воплощения Духа Святого, что его воплощение всеобщее, разлитое по всему миру. Поэтому так трудно определить отношение Духа и Святого Духа. В Духе действует Святой Дух. Духовная жизнь есть приобщение к божественной жизни. Например, для К. Барта Дух есть дар благодати Творца творению. Благодать есть для него наша тварность. Святой Дух присутствует в человеке эсхатологически. Но бартианство ограничивает возможности действия Святого Духа на человека и мир, и это одно из основных противоречий этого учения. Католическая теология почти отождествляет Дух Святой с благодатью, но это действие благодати устанавливает закономерности. Что говорится о Святом Духе в Священном Писании? Прежде всего нас поражает, что в Евангелии все происходит от Духа Святого и через Дух Святой. Рождение всегда происходит от Духа. Иисус родился от Духа, был крещен Духом Святым и возведен Духом в пустыню. Вот какими словами определяется в Евангелии роль Духа Святого: «Не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить в вас» (Матф., гл. 10, 20). Духом Божьим изгоняются бесы. «Хула на Духа не простится человеком» (Матф., гл. 12, 31). «Не знаете, какого вы Духа» (Лук., гл. 9, 55). «Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить» (Лук., гл. 12, 12). «Нужно родиться от Духа, чтобы войти в Царство Божье» (Иоанн, гл. 3, 5). «Дух дышит, где хочет» (Иоанн, гл. 3, 8). Дух животворит. Отец пошлет Утешителя Духа Святого (Иоанн, гл. 15, 26). Он научит всему. Дух истины наставит на всякую истину (Иоанн, гл. 16, 13). Все происходит через Дух. Нужно испытывать духов. Дух есть истина (I Послание Иоанна). Духом все судится. Дух все пронизывает. Дары даются Духом. Прежде душевное, потом духовное. Буква убивает, а Дух животворит. «Господь есть Дух, где Дух Господен, там свобода» (II Послание к Коринфянам, гл. 3,17). «Духа не угашайте» (I Послание к Фессалон., гл. 5, 19). Самые поразительные слова: Дух дышит, где хочет, где Дух, там и свобода, только хула на Духа не простится, Духа не угашайте. Евангелие и апостольские послания оставляют впечатление панпневматизма. Учение о Духе Святом почти не было выработано, его не было у апостолов, не было у апологетов, оно слабо развито у учителей церкви и часто носит характер субордоционализма. Но как я говорил уже, именно Дух Святой наиболее близок человеку, наиболее имманентен, наиболее всеобъемлющ по своему действию и Он наименее понятен, наиболее таинственен. Может быть, и не должно быть никакой доктрины о Духе Святом. Доктрина связывает и ограничивает. Именно доктрина производит резкое разделение между Святым Духом и Духом, всеобъемлющей жизнью Духа. Все харизмы, все дары происходят от Духа, не только дары пророка, апостола, святого, но и дары поэта, философа, изобретателя, реформатора. Религия Духа говорит не об оправдании и не о спасении, а о просветлении человеческой природы, о реальном изменении. Невидимое царство Духа творится неисповедимыми путями, и нет никаких законнических ограничений в этих путях. Действие Духа всегда означает преодоление подавленности и униженности человека, жизненный подъем и экстаз. Таковы признаки Духа Святого в Священном Писании, таковы и признаки Духа в культурной и социальной жизни. Св. Симеон Новый Богослов говорит, что озаренность, т. е. духовность, не нуждается более в письменном законе. Есть глубокая противоположность между Духом и законом. Есть глубокое различие между вдохновением, харизматизмом, новым рождением в первохристианстве и последующими аскетическими школами, с методами и законами, с длительным путем совершенствования. Святой Дух и Дух по действию своему схожи, одинаково связаны с вдохновением, с харизматизмом, с подъемом жизненных сил. Существует глубокая пропасть между Духом и авторитетом. Действие Духа Святого и Духа не непрерывно, не эволюционно, а прерывно и прерывно.
Авторитет играет огромную роль в религиозной жизни. Авторитету придают религиозный характер. Но авторитет относится не к области пневматологии, он относится к области социологии. Авторитет существует лишь в объективации, его нет в самой духовности. Авторитет есть социализация духа, он приписывает духу и духовности социальные отношения властвования. Авторитет видит в духовной жизни те же отношения, которые существуют в жизни социальной, где «князья народов господствуют» и «вельможи властвуют». Его Христос сказал, что между вами, т. е. в духовной жизни, да не будет так. Авторитет есть явление церкви как социального института. Искание авторитета есть искание критерия, который стоял бы над относительным и изменчивым множественным человеческим миром, который был бы сверхчеловеческим. Это есть искание гарантии и безопасности. Но гарантия и безопасность и есть как раз человеческое, слишком человеческое. Гарантия и безопасность связаны с социальной жизнью людей, а не с духовной жизнью. Духовная жизнь опасна, она не знает гарантий, она есть свобода, свобода же есть риск. Авторитет есть детерминация, и он относится лишь к сфере, в которой есть определяемость извне. Такова сфера внешнего общества, а не сфера духа. Гегель был, конечно, плохой христианин, но он был прав, когда говорил, что Дух есть возвращение к себе, что Святой Дух есть субъективный Дух. Авторитет есть край объективности, крайний полюс объективности. Дух же край субъективности, глубина субъективности. В авторитете, в религиозном, духовном авторитете происходит отчуждение Духа от самого себя, он выбрасывается вовне. Духовный авторитет совсем не духовен, он социален, он-то и есть человеческое, не раскрывшее в себе божественное, а оторванное от божественного и погруженное в человеческие отношения властвования. Авторитет выражается не в неизреченных дыханиях Духа, не во вдохновении, а в человеческих словах, человеческих понятиях, человеческих законах, человеческих интересах. В авторитете говорят и действуют папы, соборы, епископы, социальные институты, а не Дух. Если же в папах, соборах, епископах, социальных институтах действует Дух, то авторитета больше нет. Нахождение духовного критерия и означает исчезновение критерия, исчезновение самого вопроса о критерии. Не может быть критерия для Духа, самый Дух есть критерий. Не может быть низшее критерием для высшего, не может авторитет, который всегда имеет социальную природу, быть критерием для Духа. Дух сам наставляет нас на истину. И нет критерия для отличия того, что от Духа и что не от Духа, нет критерия, кроме самого Духа. Ложно искать критерия, это всегда означает слабость веры и неверие, неверие в действие Духа. Действует или не действует Дух, а пусть на всякий случай действует власть, начальство, авторитет с гарантиями безопасности. Так строит свою жизнь Церковь, как социальный институт, действующий в истории. Эта жизнь подчинена социальной детерминации. Ложно искание суверенитета. Все суверенитеты проходят через человеческое, через человеческие слова, мысли, действия. И всякому человеческому суверенитету противостоит человеческий же суверенитет. Суверенитет принадлежит лишь Богу. И суверенитет Бога никогда и нигде не воплощается, воплощается лишь жертвенная любовь Бога, а не суверенитет. Да и Бог, в конце концов, не есть суверенитет, ибо суверенитет – человеческое, а не Божье. Бог никогда не являлся в мире богатым, он являлся лишь бедным, он не воплощался как сила этого мира, он воплощался лишь как распятая правда. Бог не есть суверенитет, ибо не есть власть. Власть есть человеческое, а не Божье. Власть относится не к духовной жизни, а к социальным отношениям людей. Бог есть сила, а не власть. Сила Божья духовна и не походит на проявление силы в этом мире. Духовная сила есть свобода. Духовная сила не нуждается в силах этого мира, она есть чудо по сравнению с детерминированностью этого мира.
Все искания критерия для духовной жизни, все учения об авторитете вращаются в порочном кругу и ничего не разрешают и не достигают. Самое совершенное учение об авторитете – учение католическое, – в сущности, не достигает гарантий, ибо гарантий не может быть. Католическому учению удалось лишь создать сильную дисциплинарную власть, т. е. как раз показать, что авторитет относится к социальной сфере религиозной жизни. В конце концов, неизвестно, когда папа говорит ex cathedra,[19] т. е. как непогрешимый, и когда не ex cathedra, т. е. погрешимый подобно всем людям. Когда папа погрешал, а он не раз погрешал в истории, оказывалось, что он говорил не как непогрешимый папа. Но это значит, что папа был непогрешимым лишь тогда, когда высказывал непогрешимые истины, т. е. совершенно так же, как и другие люди. Папа непогрешим, когда вдохновлен Святым Духом. Но нет критерия для решения вопроса, когда именно он вдохновлен Святым Духом. Еще бóльшие затруднения получаются, когда непогрешимый авторитет приписывается, например, собору епископов. Собор непогрешим лишь тогда, когда вдохновлен Святым Духом и высказывает истину. Но нет никакого критерия для решения вопроса, когда именно собор вдохновлен Святым Духом. Критерий не в соборе, а в Духе Святом. И нет критерия для Духа Святого. Да и Дух Святой не критерий, всегда ведь имеющий рациональный и юридический характер, а благодать, свобода, любовь. К Духу Святому неприменима никакая детерминация. Это понимал Хомяков в своем учении о соборности, отрицающем всякий внешний авторитет. Дух Святой действует в соборности, в Церкви, как целом, в церковном народе. Для этого нет никаких критериев. Не то есть истина, что говорит собор, а то есть собор, где говорится истина. Не там действует Дух Святой, где собор, а там собор, где действует Дух Святой. Еще глубже понимал Достоевский, что искание авторитета в религиозной жизни есть соблазн. В «Легенде о Великом Инквизиторе» он видел в авторитете соблазн антихриста. И то, что открывалось Достоевскому, относится не только к католичеству, но и к православию, и ко всякой религии, ко всякому принципу авторитета в духовной жизни. Защитники авторитета обыкновенно обвиняют противников в отрицании воплощения Духа, в признании лишь Духа невоплощенного или развоплощенного. Это неверно. И это обвинение часто бывает лживым. Дух, Святой Дух воплощается в человеческой жизни, но он воплощается не в авторитете, а в целостной человечности. Это основная мысль моей книги. Тогда только антропоморфизм оправдывается как путь богопознания, ибо Бог подобен не внешней природе, не обществу, не понятию, выработанному мыслью, а целостной человечности. Дух Святой действует не в иерархических чинах, не во власти, не в законах природы или законах государства, не в детерминации объективированного мира, а в человеческом существовании, в человеке и через человека, в человеческом творчестве, в человеческом вдохновении, в человеческой любви и жертве. Ошибочно отождествлять воплощение с объективацией. В социальных институтах происходит объективация Духа, а не воплощение Духа. В процессе объективации церковь как социальный институт была превращена в идола, как и государство, как и нация, как все, что организует социальную обыденность. Церковь как синагога переживает страшный кризис, от нее отлетает Дух, в ней нет Духа пророческого. И мы должны уповать на новую эпоху Святого Духа. Откровение всегда в Духе и всегда духовно, оно не в объективированном порядке и обществе совершается, оно там лишь символизируется. Религиозное откровение духовно, и возврат к истокам откровения есть возврат к Духу и духовности. Только такой возврат не будет реакцией. Ошибочно было бы видеть в предании авторитет. Подлинное предание экзистенциально, и оно есть духовная жизнь. Предание же, традиция, ставшая законнической и окостеневшей, есть угашение духа.