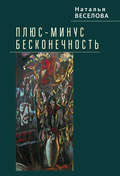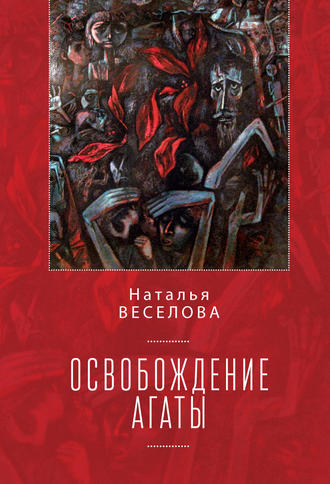
Наталья Веселова
Освобождение Агаты (сборник)
Но отец был уверен:
– А как же! Которая мажется, та себя, как на продажу, выставляет, даже если о том и не думает. И покупатель всегда найдется – вопрос только времени. А которая не мажется, та для мужа живет, ей другого не надо. Я вот своей, – (имелась в виду не почившая супруга, а новая отцова пассия, к которой он стыдливо, но целеустремленно бегал уже два года), – так и сказал еще в самом начале: увижу, что рожа размалевана, – возьму мазилку и враз тебе на голову вылью.
Он прожил еще четыре года, успел даже потешно повозиться с внучкой Долюшкой, и скоропостижно умер от обширного инфаркта – как выяснилось на вскрытии, от третьего, что удивило искренне горевавшего Поэта несказанно: к врачам отец никогда ни за чем не обращался, а из лекарств после смерти жены признавал лишь салол от живота, аспирин от головы и валидол от сердца… Ни тем, ни другим, ни третьим не увлекался, таблетки годами сохли и желтели в кухонной аптечке вместе с зеленкой и серым от времени бинтом…
А жить становилось все невыносимей. Сиротских зарплат библиотекаря и оператора котельной на пропитание семьи из трех человек не хватало уже просто категорически. Короткое время держались продажей надежного советского золота, оставшегося от двух покойных матушек; по полгода жили трудным подножным кормом, благо летний сарайчик на шести сотках в дальнем, за лесами-за болотами, садоводстве, Валя давно унаследовала от матери (отца не помнила); одевались в обноски троих покойных родителей, отчего долго походили на призраков победившего социализма, – но о подобных пустяках и вовсе совестились задумываться…
И все-таки он издал за это время шесть небольших книжиц – за свой счет, конечно: после того, как волна, так обнадеживающе вынесшая его когда-то на твердый берег надежды, схлынула, оставив на том берегу лишь грязную пену, сор да дохлых медуз, поэзия надолго перестала интересовать оголодавших и быстро дичающих бывших читателей. Чтобы издать свои, он продавал чужие – ценные книги из библиотеки Валиных предков – в прямом смысле воровал их оттуда во время родственных визитов, потому что квартирой тещи давно завладели хищные старшие сестры. Он посещал сразу два самоуверенных ЛИТО, где иногда издавали тощенькие коллективные сборники на спонсорские подачки. Мечтая о битком набитых слушателями залах, где молодежь с горящими глазами гроздьями висит на балконах, бурливо толпится в проходах и сажает низкорослых юношей на плечи в распахнутых дверях, он выступал теперь перед дюжиной шепчущихся крашеных старух в каких-то сомнительных собраниях, перед пылавшими открытой ненавистью полуярками-школьниками, насильственно сгоняемыми Валей в актовый зал на уроки внеклассного чтения, перед такими же, как он, неиздаваемыми поэтами и, что еще мерзей, заносчивыми, разодетыми в пух и прах поэтессами, слушавшими его лишь потому, что сами ждали очереди выступить…
Он классически попал из огня да в полымя, в чем убедился очень скоро, как и в том, что в новых политических условиях можно спокойно читать публике старые клеймящие различные неправды стихи вперемешку с только что написанными – и они звучат в новейшее время точно так же убедительно и уместно, как и в предыдущей проклятой формации. Куклы бездарей болтливых,/В политику играющих, – надрывался Поэт, тряся фирменной прядью, на поэтических собраниях, где разрешалось курить, отчего отрешенные слушатели выглядели сквозь дым, как кикиморы среди болотных испарений, – Бюрократов тьму сонливых/От нас оберегающих…/Веку ядерных аварий,/Веку сумасшедших,/ Обнаглевших хитрых тварей,/К власти путь нашедших… – но обидно много поэтов получило возможность невозбранно высказываться в таком же духе, и его одинокий пророческий голос тонул в квакающем болоте…
Дома жилось не лучше. Валя надоела ему необратимо. (Застенчиво грезя о бурных связях с экстатически твердящими «Ты пророк! Я тебя недостойна!» поклонницами, он изменил ей за все время только один раз, с возрастной поэтической дамой, имевшей слишком поздно рассмотренный завитой парик на коротко стриженной седой голове – а больше ни одна не захотела.) Дочку Долю Поэт любил, разумеется, – но несколько отвлеченно, потому что инстинктивно ждал и искал в ребенке продолжателя и выразителя своих пошатнувшихся чаяний, но было сомнительно, что девочка однажды в должный час подхватит родительское знамя: не для слабых девичьих рук его тяжелое древко, смутно чувствовал ощутимо разочарованный отец. Он, конечно, безотказно водил дочь в недалекий детский садик, покупал ей мороженое на сэкономленные копейки, атавистически волновался, когда она вдруг заболела старинной и оттого страшной скарлатиной, от которой умерла в детстве сестра его смутно помнившейся бабушки; впрочем, когда выяснилось, что современная скарлатина совсем не опасна, сразу успокоился. И, в конце концов, он легко мог представить себе такую же кипучую жизнь – но без дочери Долорес… Нелюбимая же Валя была необходима – и это Поэт безжалостно осознавал. Пусть он презирал ее за то, что под многозначительной тихостью и чистотой юности, поманившей его когда-то обещанием свежего и сильного обожания, оказалась обыкновенная безликая никчемность. Пусть ему претило в ней ее жалкое самоуничижение, отсутствие любого самостоятельного смысла, пустота, которую он когда-то мечтал наполнить – собой. Пусть наполнить не удалось, потому что наполнять было нечего, слишком уж скудельным оказался сей сосуд… Но, пока она была у него, была вместе с девочкой Долечкой, он знал, что не сдастся. Не сдастся хотя бы ради той огромной и грозной надежды, которая когда-то столкнула их – случайные листики, мотаемые вихрем Истории, у Казанского собора в прохладный августовский денек…
И поэтому, когда наутро Лупоглазый, неубедительно растягивая губы в скупой песьей улыбке, вошел в мешковатой бирюзовой форме и на затылок сдвинутой шапочке к нему в палату, Поэт обрадовался: улыбка явно предназначалась кому-то, кто уже догонял доктора, – а в коридоре робко постукивали женские каблуки…
– Вот и супруга ваша, – бодро доложил врач, не поздоровавшись. – Раньше обхода пришла, оцените… – Обернувшись, он хрипловато бросил назад: – Только недолго на первый раз, хорошо? – и отстранился, давая дорогу.
На миг притиснув врача к стенке, в палату почти ворвалась высокая длинноволосая женщина в темно-синем платье до колен и с короткими бусами из ровных серых жемчужин.
– Вася… – срывающимся голосом прошептала она, прежде чем броситься к постели. – Слава Богу… – и подавила рыдание.
Женщина эта была ему абсолютна незнакома. Поэт мог поклясться, что никогда раньше ее не видел.
Глава 2
Old MacDonald Had a Farm[1]
Частных учителей приглашают к двум видам учеников: более или менее способным, но нуждающимся в твердой руке для поддержания на спокойном пятерочном уровне, и тем, которым пожизненно вызывают «скорую помощь», как инвалидам детства, подверженным постоянным смертельно опасным приступам. В этой категории встречается немало потенциальных гениев, у которых одна половина мозга, отвечающая за техническую или же гуманитарную сторону человеческой жизни, словно обесточена, как половина квартиры, когда в электропакетнике один из в норме торчащих вверх рычажков с тугим щелчком падает – и это означает, что пробки вылетели. На одной половине дома как ни в чем ни бывало болбочет у сына телевизор и подвывает у хлопочущей мамы посудомойка на кухне, – а на другой в сумрачном папином кабинете навечно погас экран компьютера с только что вдохновенно начертанной, но еще не сохраненной формулой нового топлива для межпланетных кораблей… Другими словами, если человек по-русски читает по слогам, а английский алфавит в выпускном классе видится ему не более ясным, чем арабская вязь, то нет никакой гарантии, что на первом курсе физтеха он не изобретет машину времени; а если его математические познания трагически оборвались на так и не освоенном квадратном корне, то общество вовсе не ограждено в будущем от двухтомного продолжения «Евгения Онегина»… Впрочем, существует и третий, аварийный вариант. Это отягощенный родительскими грехами всех видов ребенок, который лет двадцать назад специальной медико-педагогической комиссией был бы навеки причислен к беззаботному племени дебилов и после окончания условной школы, дипломатично называемой «вспомогательная», обречен до смерти клеить белые коробочки (что, в общем-то было бы по отношению к нему и справедливей и гуманней, тем более, что и коробочки государству тоже нужны). Но восторжествовавшая в девяностых агрессивная демократия решительно воспротивилась такому тоталитарному произволу, и начала требовать на упомянутом заключении, кроме подписей врачей и педагогов, еще и подпись родителей – ну, а чтобы поставить таковую, они и сами должны сначала рехнуться. Ведь если ребенок не мычит, а разговаривает, пусть даже параллельно и пережевывая одному ему известную вкуснятину, и самостоятельно находит туалет, где ухитряется спустить за собой воду, то ни один в своем уме родитель не вычеркнет его собственной рукой из списка небезнадежных. Оставит хоть один шанс на почти человеческое (ведь и в поведении официально здоровых людей часто приходится на что-то закрывать глаза), очень напоминающее полноценное будущее. Вот и ходят к нему до глубокой ночи, сменяя друг друга на посту, как бойцы Кремлевской роты у Вечного огня, жадные репетиторы уже по всем предметам, кроме разве что физкультуры. Все они прекрасно знают, что ученик их, в принципе, необучаем, да и речь-то идет не о том: не обучить, а вытянуть на желанную тройку, – и хорошо, если родители тому не препятствуют…
Но ведь нет же! Была, например, у Полины девочка, словно сошедшая с полотна придворного мастера девятнадцатого века, – и одевала ее мама соответственно, в розовые шелка с кружевами, а в конфетные ушки вдевала бриллианты… Все у нее было – и сверкающие золотом локоны до копчика, и тонкая кунья бровь, и будто искусно выведенные эмалью нечеловечески синие глаза в аккуратных стрелках ресниц… – не было только мозгов. Если девочку сажали – она сидела, пока не падала, если ставили перед ней тарелку – отрешенно ела, а унитазом пользовалась по условному рефлексу, точно так же, как ее собственная британская кошка, раз и навсегда приученная к лотку. Четыре раза в неделю в течение получаса Полина водила ее безответной рукой, все время норовившей выронить авторучку, по тетрадным клеточкам, произнося вслух заданные на дом простые английские предложения, а на вторую половину урока запускала диск с несколькими английскими песенками – и можно было спокойно расслабиться за чашкой кофе, равнодушно наблюдая, как в гладких непроницаемых глазах ученицы исподволь нарастает некая тупая озадаченность. «Моя знакомая по фитнесу тоже пригласила к своей дочке репетитора! – горячилась после урока ее моложавая мать с пластмассовым от бесконечных подтяжек лицом. – Занимается с ней всего полгода, а девочка уже стрекочет по-английски, как сорока, – не остановишь. А вы, Полина Леонидовна, у нас третий сезон, а у Заиньки все еще тройки в четверти!». Если бы Полина была по-настоящему честным человеком, то следовало бы твердо ответить, глядя в глаза этой старой, прошедшей огонь и воду и мечтающей о медных трубах суке, что нельзя в конце пятого десятка зачинать детей от кого попало в пробирках, да выращивать их потом в своей истощенной абортами бесплодной утробе в компании двух-трех засохших трупиков предусмотрительно редуцированных сестренок. «А коли родила да кормишь, – гаркнуть под конец так, чтобы у той в лице мелькнула осмысленность, – то ты не англичанок-математичек ей, дура, нанимай – дефектологов! Потому что она у тебя по-русски знает меньше слов, чем людоедка-Эллочка!». И швырнуть бы что-нибудь шумное, да дверью грохнуть… Ага, и четверть месячного заработка долой. «У каждого свои способности… – понижает голос до бархатности Полина.
– У кого-то к языкам, как у той девочки. А у кого-то… – бросает выразительный взгляд в открытую дверь, за которой неподвижно, как кукла Мальвина, сидит на диване среди десятка вышитых подушечек Заинька, – способности запрятаны глубже… И лежат где-то в другой области… Но, поскольку школу закончить все-таки надо…».
Через пять минут в Заинькином дворе Полина с привычным и все чаще оправдывающемся этой зимой страхом поворачивает ключ зажигания в едва живой отцовской «шестерке». Машина болезненно вздрагивает всем своим чуть теплым телом и удивленно вскрикивает, как женщина, наступившая на осу. А магический ключ, будто бор в огромном пульпитном зубе, вызывает у нее длинную ознобную дрожь и каскад надрывных стонов… В общем, на следующий урок Полина бежит пешком, опасно оскальзываясь на обледенелых дорожках и уже бесчувственными пальцами без перчатки прижимая к щеке холодный, как пистолет Макарова, мобильник: «Да, да, опять сдохла… Нет, вообще не схватывается… А хрен ее знает, жужжит, как навозная муха, и все… Да как я вам ее пригоню – на себе принесу, что ли…».
На последнем уроке ее напоят, накормят и обогреют – хотя никакой пользы она и там никому не принесет. То есть, добросовестно сделает домашнее задание за Петю – именно так зовут уже не маленького, но всегда испуганного казашонка. Глаза мальчика природа словно срисовала из эпического произведения, созданного на мультипликационной студии Казахской ССР, – именно такими там гордо смотрели национальные кони: вроде бы и традиционно раскосыми, но в то же время дикими и громадными. Его мать, сорокапятилетняя белокожая, скуластая, светло-рыжая сибирячка под два метра ростом, давно разведясь со случайным плюгавым азиатским отцом своего ребенка, растила его с помощью старшего сына – ни разу не показавшегося при Полине владельца одного из крупных успешных телеканалов. Помощь оказывалась исключительно материальная, уродливо щедрая, немало озадачивавшая и саму принимающую сторону. По необъятной, как родные просторы, квартире, отделанной малахитом и уставленной мраморными амурами, по наборному паркету, среди мебельного рококо и технических чудес, бродила, как снежный человек по Забайкалью, огромная женщина в серых валенках на босу ногу, в теплой ночной рубашке нежно-голубого цвета и с блестящими, будто ромашкой крашенными, но на самом деле нетронутыми волосами, раскиданными без унизительного участия расчески поверх оренбургского платка, покрывающего круглые мощные плечи. Не имея вообще никакого образования, эта женщина была так умна, что Полина со своими двумя высшими гуманитарными перед ней неизменно терялась. Возможно, этой сибирячке с пронзительным взглядом отсутствующие университеты вполне заменила исключительно счастливая наследственность: деда Анны Георгиевны раскулачивали не как всех, а дважды. Первый раз почти законно, в черноземной полосе России, где отобрали племенное стадо и несколько гектаров плодоносных садов и пашен, а второй – в сибирской тайге, через три года после того, как оставили с беременной женой и пятью детьми прямо на шпалах Транссиба – просто выгрузили из товарного вагона, в чем были, в девственный снег под кедрами и, весело гуднув, отправились дальше… Обучением бедного Пети ни работодательница, ни репетитор особенно не заморачивались, без слов договорившись о его полной бесперспективности, – им было просто интересно друг с другом. После урока и до полной темноты они часто просиживали на кухне за обширным столом из диковинной пестрой яшмы, раздвинув локтями грязные золотые вилки и севрского фарфора тарелки с засохшими объедками, и философствовали, прихлебывая травяной чай с деликатесным домашним растегаем. Обе, каждая на свой лад, дивились на сидящее напротив диво дивное: одна – на оживший в центре Петербурга идеальный, будто только что из поэмы, некрасовский типаж, а другая – на впервые подпущенного на близкое расстояние дотоле неведомого зверька под названием самка русского интеллигента. И две далекие друг от друга, как Петербург и Сибирь, женщины удовлетворенно убеждались всякий раз, что во всех мнениях вполне меж собою сходятся, хотя и разными путями добираются до одной и той же неистребимой сути вещей…
Был у Полины и третий ученик, и четвертый, и пятый… Легка жизнь домашнего учителя! Доход в полтора раза больше чем у школьного, а нагрузки и нервотрепки меньше раза в три, причем, ответственности практически никакой. Зато никакой и пенсии – так ведь до нее еще неизвестно, в наших условиях доживешь ли… На этот заманчивый путь встала Полина Леонидовна невзначай: когда очень болел перед смертью ее старый папа, представитель редкой, как белый воробей, популяции отцов-одиночек, брошенных ветреными женами, она должна была разорваться между ним и бескорыстно любимой работой в средней английской школе. Но оказалось невозможным совместить ее с бесконечными дневными поездками с папой по уникальным специалистам и труднодоступным, как гора Эльбрус, процедурам, призванным лишь продлить ему мучительное существование, с редкими анализами, которые нужно было многократно лично отвозить в далекую, чуть ли не подпольную лабораторию… Но, главное – не хотелось поступаться последним общением с родным человеком, иначе обреченным вечно сидеть под колючим пледом в одиночестве, в высокой и темной, как готический собор, квартире среди пыльных портьер, под арочными сводами заплесневевшего потолка… Сидеть и думать о том, что жизнь, вроде бы, и не начиналась (все думал – вот выращу дочку, образование ей дам, тогда уж и для себя…), а уже неумолимо заваливается за низкий горизонт, как похожее на подгнившую хурму в ледяном мху морозилки зимнее питерское солнце тихо скатывается куда-то за край заставленного аптечными склянками старинного широкого подоконника…
Тогда Полина и бросила изнурительную школу, перейдя на торную и надежную стезю частного репетиторства: думала, временно, но оказалось, навсегда. Когда, отплакав положенное по отцу, она вознамерилась вернуться на былую работу, то, уж собрав нехитрый пакет документов, вдруг призадумалась: ей остро вспомнился резкий, как кинжальный удар, грохот будильника, врывающийся в половине седьмого утра в ее только-только укрепившийся и повернувший на интересное сон, смазанные лица подростков, традиционно видящих в учителе подлежащего изничтожению врага, дружный, крепко споенный педагогический коллектив, где даже физруками работают две одинаковые блондинки в ярко-фиолетовых костюмах, пыльный ворох ненужных в мире абсолютно никому, но обязательных для заполнения бумаг, стопки идиотических методичек, свое собственное очень точное школьное погонялово «Коряга»… И решила не особенно торопиться с возвращением блудной дочери.
Полине исполнилось тридцать два, она была стандартно некрасива, искусственно дефлорирована под местным наркозом, чтобы не позориться на медосмотрах (зато уши сохранила девственными, убоявшись кровавой процедуры прокалывания), избыточно для женщины умна, более или менее равнодушна к нарядам и косметике (хотя одевалась нарочито элегантно), и наркотически зависима от художественной литературы. Ученики обидно прозвали англичанку Полину Леонидовну Корягой с полным основанием: весь склад ее сухого угловатого тела, общий ритм скупых движений, грубые и жесткие, полумужские черты бледного лица, обрамленного гладкими пепельными волосами с ранней проседью, – все это сразу приводило на ум одиноко торчащую из болота высохшую ветвь погибшего дерева. Когда Полина была и сама собой отчего-нибудь недовольна (а к собственной персоне относилась интеллигентски-взыскательно), она мысленно обругивала себя именно этим нехорошим словом: «Ну, Коряга ленивая, ты так и намерена жить среди любимой болотной тины? На ремонт подвигнуться не желаешь?». И подвиглась, и погода прожила, как кот на гноище, и в результате осталась на сверкающем паркете слегка ошарашенная: неужели это вот все – для нее одной?
В незапамятные времена сюда в качестве подселенцев подсунули ее тогда еще ненадолго женатых родителей. Во второй, большей комнате жили две старушки-близняшки, родившиеся там же в последней, уже не очень благополучной четверти девятнадцатого века. Квартира изначально была, как они всю жизнь помнили, шестикомнатной и принадлежала их строгому мундирному отцу, путейскому инженеру. Там все обстояло основательно, как и полагается в порядочных домах: имелись две расторопные горничные, душевная няня в кокошнике и в рюмочку затянутая гувернантка – а так же целых два целомудренно незаметных, но размером с жилую комнату санузла в разных концах квартиры: один, в белоснежном сияющем мраморе, – господский, другой, с замечательными медными рычажками и кранами – для капризной городской прислуги. Последнее обстоятельство и позволило озабоченному квартирным уплотнением гегемону запросто, как ножницами, раскроить бывшее родовое гнездо на две неравные части: одна, с выходом на черную лестницу, сохранив четыре комнаты и медные рычажки, так и жила свой долгий век коммунальной; другой достались две, плюс беломраморные удобства, и она со временем возвратилась в благородное семейство отдельных квартир. Когда, почти через сто лет после общего дня рождения, сестры-близнецы, прожившие всю жизнь нераздельно, будто были не простыми, а сиамскими, умерли в один пусть не день, но месяц, их комната, отошедшая Жакту, подлежала коммунальному заселению вновь. И вот тут Полинин родитель, покинутый муж и ответственный отец, отбросил присущую ему всегда кротость и непредсказуемо взбунтовался. Выяснилось дотоле неизвестное обстоятельство: он и его ребенок, оказывается, – разнополые! И им законодательно разрешается претендовать на освободившуюся площадь! А Полинин папа, как оказалось, ответственный не только отец, но и работник! В общем, комнату они получили в наследство от покойных инженерских дочерей вместе с антикварной мебелью, бронзовой настольной лампой, изображавшей лесную деву с очаровашкой-олененком у ног, и хитро обнаруженным девочкой-резвушкой тайником под обоями. Из тайника, правда, достали не шкатулку с бриллиантами, а всего лишь связку коричневых от времени скучных писем, писанных неизвестно кем неизвестно для кого и не содержавших ровно ничего ни таинственного, ни романтического, – так что оставалось только удивляться тому, что их так основательно припрятали. В перестройку квартиру предусмотрительно приватизировали, а после смерти отца никому не нужная, одинокая домашняя учительница Полина Леонидовна осталась бродить по теплым гулким комнатам, постукивать неброско налаченными ноготками по бело-синим изразцам случайно за целый хлопотливый век не пострадавшего четырехметрового камина и удивляться непрактичной расточительности мировой судьбины. Она знала, что некоторые из ее бывших школьных учеников, коренных петербуржцев, живут в историческом центре с мамой, папой и двумя братиками в узких, как трамваи, комнатах и не мечтают о лучшей доле; что иные и вовсе стоически ездят в престижную гимназию из окраинных пятиэтажек, тесно и жестоко заселенных никому не ведомой питерской беднотой; прекрасно понимала, что вопреки всякой справедливости единолично владеет своими светлыми высокими палатами, не снившимися во время оно и боярскому терему… Здесь бы звучать золотому детскому смеху, сбивчиво топотать коротеньким неумелым ножкам… И зачем ей эта кухня размером с бальный зал, если не готовить здесь завтрак, обед и ужин для большой дружной семьи, а лишь разогревать в микроволновке унылые синтетические котлеты? Ей даже завещать это недвижимое богатство, за которое нашлись бы желающие и отравить, и зарезать, – некому, некому, некому… Впрочем, завещаешь – и действительно зарежут…
Однажды осенью позвонило агентство по подбору домашнего персонала, где давно невостребованно пылилась на всякий случай заполненная Полиной анкета. Предлагались регулярные уроки английского у девочки семи лет и, пару секунд незаметно поколебавшись, Полина решила заткнуть ею внезапную финансовую дыру, зиявшую на месте без предупреждения отданного в дорогое закрытое заведение ученика.
Дверь открыл пожилой бородатый дядечка в женской шерстяной кофте а ля академик Сахаров, а из-под его крендельного локтя с недоверчивым любопытством глядел сквозь каштановую челку диковатый, как у Маугли, круглый, редкого орехового цвета глаз. Приличность любого работодателя определялась, в числе других, маловажных факторов, и одним наиболее веским: поят или не поят чаем-кофе, и что к напитку предлагают. Бывали семьи, где на просьбу о невинном стакане воды, чтоб запить таблетку от головной боли, давали полчашки, которую разрешалось быстро выпить на кухне под пристальным взглядом хозяйки, – и создавалось полное впечатление, будто мамаша ученика боится, что учительница эту чашку украдет. В других домах насильственно кормили полным обедом из первого, второго и третьего, кланяясь, умоляя не побрезговать, и обидчиво поджимая губы, если англичанка была сыта. Наиболее нормальными местами считались у Полины те, где попросту приносили к рабочему столу добрую кружку кофе со сливками и могли пожертвовать несколькими хрустящими печенюшками. Бородатый «Сахаров» оказался как раз из таких, назвался Константином Павловичем и Леночкиным дедушкой, а с учительницей пожелал предварительно конфиденциально побеседовать. Это было, в общем, неплохо – по крайней мере, появилась возможность узнать, чего же именно хотят от нее в этом доме: твердой тройки в году или высшего балла на вступительных в Кембридж.
Константин Павлович долго и занудливо-профессионально готовил кофе, говорил поставленным преподавательским баритоном (да и являлся профессором какого-то технического, в расчет Полиной не принятого института), а историю рассказал малоприятную и легкой наживы не сулящую. Его давно не любимый, последовательно поправший одно за другим все отцовские чаяния сын лет восемь назад случайно перепихнулся (так и сказал, даже Полининой внушительной камеи под кружевным воротничком стерильно белой блузки не постеснялся) с юной наркоманкой, дочкой маргинальных родителей, и думать об этом, естественно, позабыл на следующее же утро. И напрасно, потому что наркоманка, пребывая в ином, не каждому доступном мире видений, о своей беременности догадалась только, когда у нее начались преждевременные роды. Но, родив ребенка, она неожиданно встала на трудный путь исправления, ощутила дотоле неизвестную ей ответственность и даже предпринимала какие-то неубедительные действия, со стороны напоминавшие воспитательный процесс, – а именно, дав ребенку имя, определила его в круглосуточный ясли-садик и целых семь лет не забывала брать оттуда на выходные. Но три месяца назад была убита в бытовой драке пьяным сожителем. Никого из живых безработных родственников упавшая на Землю по недосмотру девочка Лена не заинтересовала, зато неравнодушная директриса интерната сумела разыскать ее биологического отца. Разысканный отец, непонятно чего устрашившийся, бросился за помощью к собственному, уже лет пять не навещаемому. Захотел было Константин Павлович от всей этой неприятной истории загодя отмежеваться, но дрогнуло мягкое стариковское сердце: представился какой-то там солнечный лучик в недрах одинокой темной квартиры, загроможденной вековыми накоплениями мебели, и еще что-то столь же сентиментальное, вроде лесного ручейка в дремучей чаще. Закончилось тем, что уже отданную в школу-интернат внучку Леночку теперь на выходные забирает он сам, да еще берет ее домой в среду, выходной свой день, когда у него нет в институте лекций… Девочка, конечно, запущенная («Дичок такой, понимаете?» – благодушно улыбнулся разомлевший дед), но он задался целью бережно ее выправить и вернуть в мир хороших людей полноценным членом общества, для чего первым делом остриг ей волосы, а вторым – пригласил репетитора по английскому.
…У старика Макдональда была ферма, на которой он развел кучу живности. Имелись у него куры, то здесь, то там издававшие почему-то воробьиное «чик-чик» вместо законного кудахтанья; утки его, тоже повсеместно, перешли почему-то на лягушачье кваканье, а уж свиньи изъяснялись и вовсе невразумительным «хоньк-хоньк»; только коровы невозмутимо тянули свое интернациональное «му-у» – в общем, весело, должно быть, жилось шотландскому старикану.
– Неправильно, неправильно! – горячо настаивала Леночка, чуть ли не со слезами на глазах. – Утка говорит «кря-кря»! А свинка – «хрю-хрю»! Нам Наталья Ильинишна говорила! – то была, вероятно, ее маленькая истина последней инстанции, за которую заставлял цепляться дремучий инстинкт самосохранения.
– Она рассказывала о русских свинках и уточках, – терпеливо разъясняла Полина в тысячный раз. – Английские кричат по-другому…
Она вновь нажимала кнопку музыкального центра.
– Old Macdonald had a farm, – несся бодрый бесполый голос, – Еа-еа-уо-о… And on his farm he had some chicks… Ea-ea-yo-o… With a «chick-chick» here… And a «chick-chick» there… Here «chick», there «chick», everywhere «chick-chick»[2]…
Про Макдональда Леночка вполне понимала: это была такая замечательная, совсем не похожая на интернатскую, столовая, где в больших цветных коробках, кроме булки с котлетой и картонного кармашка с вкусным жареным картофелем, лежала еще и маленькая симпатичная игрушечка. И котлета была даже очень ничего себе, с густой желтой подливкой и зелеными листиками. Она тоже имела свой персональный картонный домик. Все эти звери нужны Макдональду, чтобы делать из них котлеты, – понятно, что зверей у него было много: вон, сколько людей в столовой, и все едят котлеты… В «Макдональдс» Леночку водил дедушка Костя два раза в неделю – в среду и субботу, поэтому, когда кончалась среда, она сразу же начинала ждать субботу, а когда кончалась суббота, то сразу же начинала ждать среду. У нее теперь было, чего ждать. Другие дети – те, что поглупее – ждали своих мам. Мамы к ним никогда не приходили, а они все равно ждали. Леночка была умнее их и давно поняла, что мама к ней больше не придет, и ждать ее – просто глупо. А вот дедушка Костя – тот приходил, значит, его и нужно было ждать. В результате, другие ждали напрасно, а Леночка – нет. Вот какая умная была девочка Лена. Поэтому и песенку про старого (наверное, такого же, как дедушка) Макдональда она слушала с удовольствием, хотя звери в ней и разговаривала неправильно. Правда, это все, что ей было в песенке понятно. Там вообще все слова были неправильные. То есть, когда Полина Леонидовна объясняла, то Леночка сразу понимала – не дурочка же. Но, когда учительница уходила, Леночка быстро все забывала, и на следующем уроке уже совсем ничего не помнила. Полина Леонидовна пыталась включать и какие-то другие песенки, но те были совсем неинтересные, потому что в них ничего не говорилось про столовую дедушки Макдональда. Когда вдруг звучала не та мелодия, Леночке сразу хотелось плакать и кричать – слезы так и брызгали: