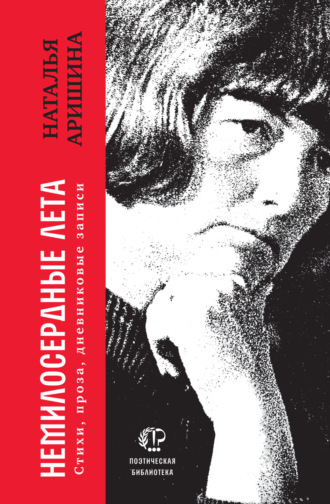
Наталья Аришина
Немилосердные лета
Немилосердные лета
Тихо тебя окликну. Ты промолчишь в ответ,
сколько б ни миновало немилосердных лет.
Знаю, что оборвется, словно в немом кино,
сна непрочная пленка, выцветшая давно.
Летнее новолунье. Нет ни звезды в окне.
В летнее новолунье свиделись мы во сне.
В летнее новолунье, острым блестя серпом,
месяц тропой знакомой спящий обходит дом.
Нет у меня ответа ни на один вопрос.
Как происходят в небе жатва и сенокос?
Как происходит это в новые времена?
Как, не молясь, уходят вечным путем зерна?
29 января 2022, суббота, последний вариант
Окно
На письменном столе – следы былых чернил,
тревожат сквозняки пустую птичью клетку.
И старый клен совсем окно мне затемнил,
повесив на карниз расхристанную ветку.
Она была полна и листьев золотых,
и в крылышках сквозных своих семян летучих.
И снова тщилась я понять свободный стих,
и старый дом был тих, и небо – в низких тучах.
Вчера мела метель, почти не таял снег,
сосульки за окном, казалось мне, звенели.
И снилось, что лечу: с пригорка – санок бег.
Проснусь – уже виски заметно побелели.
Не тает седина от близкого тепла,
по-прежнему легко во сне летают сани.
А в том, что о тебе в стихах я наплела,
в отпущенные дни мы разберемся сами.
Окно-2
На письменном столе – следы былых чернил.
Тревожат сквозняки пустую птичью клетку.
Озябший клен совсем окно мне затемнил,
повесив на карниз расхристанную ветку.
Она была полна и листьев золотых,
и в крылышках сквозных своих семян летучих.
И снова тщилась я понять свободный стих.
И старый дом был тих, и небо – в низких тучах.
А мой ручной щегол? А детских санок бег?
Сосульки под окном еще вчера звенели…
Потом взвилась метель. Опять растаял снег.
Проснулась – а виски заметно побелели.
Не тает седина от близкого тепла,
по-прежнему легко во сне летают сани.
А то, что о тебе в стихах я наплела,
в отпущенные дни распутываем сами.
Большие снега
Где здешняя лебединая пара зимует? –
Не в лебяжьих снегах Патриарших прудов.
Вязнут в них собачонки в куцых попонках.
А спортивный бег упорной девчонки –
по вычищенным, припорошенным дорожкам.
Уже не первый квадрат по периметру пруда
ею протоптан – жду, когда пробежит мимо.
Нравится мне эта девчонка в дорогих кроссах,
похожих на модели лайнеров –
тех, что я видела позапозапрошлым летом
в витрине яхт-клуба, куда забрела ненароком.
Не теряю из вида красный помпон на ее шапчонке
и растянутый свитер на неспортивных формах.
Помню самовязанные платья из ровницы,
и мохеровые кофтенки на худеньких плечах ровесниц,
и свитер любимого, пропахший табачным дымом.
Где они зимуют, эта пара с Патриарших?
Пара лебедей без выводка.
Мой спутник мне признается,
что не единожды снились ему
виденные нами наяву
стаи лебедей на морских побережьях.
Поутру непривычно тихо
в больших снегах Патриарших прудов.
7 февраля 2022, понедельник
Пора…
Пришлось отвечать за былые привычки –
к весне забираться к чертям на кулички.
Судьба отменила случайный приют
у моря, где яхты чужие снуют.
Всего тяжелее прощаться с привычным,
забыть при финале о старте отличном,
с упорством держать неизбежный удар
и грустно на мелочи выпустить пар.
Пора водворяться в проулке горбатом,
от грохота уши закладывать ватой,
соседских клопов дихлофосом встречать,
обои сменить и права подкачать.
Гремит мегаполис мобильным железом,
скрипит ветеран неудобным протезом,
грохочет музы́ка в окне дурака,
пока грозовые молчат облака.
15 февраля 2022, вторник
Две дорожки следов
От льдины, что под ногами, до звезды у меня за плечом –
всюду ночь без единого лишнего звука.
Не мучай меня, не спрашивай ни о чем.
Всюду зимняя оторопь, имя которой – скука.
За горизонт ушел последний баркас.
В каменном лабиринте спряталось эхо.
Две дорожки следов остались от прежних нас:
тень улыбки и горечь смеха.
До предела
Александровский сад заметён до предела.
Слишком рано зима, не таясь, поседела.
Снег надолго залег, не отступит мороз.
Я забросила краску свою для волос.
Спят ненужные рифмы, как сытые мыши.
Спит узор на стекле и тарелка на крыше.
Вереница авто утонула в снегах.
Удивляюсь себе, что еще на ногах,
что ковер по старинке я снегом почищу,
что подобных занятий придумаю тыщу.
А тебя на прогулку я вытащу в сад,
над которым холодные звезды горят.
Часть Вторая. Мне нравятся поэтессы
От автора[1]
«Мне нравятся поэтессы, Их пристальные стихи, Их сложные интересы, Загадочные грехи…» Стихотворение Владимира Соколова «Мне нравятся поэтессы…», строчку которого вынесла в заголовок, я часто слышала на вечерах поэзии из уст товарок разных поколений. В последний раз, кажется, из уст Тамары Жирмунской. Она уверена, что стих – о ней и ее ровесницах. А ровесница стихотворения, кстати сказать, Галина Нерпина… Родилась в тот год, когда Соколов его написал. Я не боюсь слова «поэтесса», люблю понятие «вечная женственность» и всё, что с ним связано. И не выношу гендерных разборок.
Подборка собралась сама собой. Стихи написаны в разные годы. Среди героинь этих стихотворений нет ныне живущих. Здесь только одна моя ровесница – Раиса Романова. Она не была моей близкой подругой и единомышленницей, но после первого шока от печального известия я долго потом перебирала в памяти всё, что нас, ровесниц, связывало. И в этой турбулентной зоне обозначились прежние и будущие мои героини, три поколения поэтесс. Не говоря уж о звездных именах, принадлежащих вечности.
Свеча Светлане
Памяти Светланы Кузнецовой
Уже пылит безумный мельник.
Земли угрюмый черновик
вдруг перебелится на миг.
И наследит на нем бездельник.
Твоей свечи забрезжит свет,
когда тебя на свете нет.
Но твой готовится сочельник.
Сквози, бесплотна и горда.
Твои настали холода,
пути воздушные без края.
Осмелюсь я свечу зажечь.
Не отвращайся, не перечь.
Я буду зеркало стеречь.
И звать, от страха замирая.
Сад камней
Жила же Вера Маркова в саду
камней. Их было многовато.
И я не по стопам ее бреду,
а только окликаю виновато
рис поливной да ирис голубой,
бамбуковые палочки для смака,
колонию моллюсков и прибой,
который их кусает, как собака.
Я всё сама найду на берегу.
По мне стихи без «эль» – сплошная мука.
Не стану каллиграфом. Ни гугу –
во славу иероглифа, но – звука.
Поблажка
Пальцы серых обезьян…
З. Гиппиус
Множа морок и обман,
неправдоподобно тонки
пальцы серых обезьян,
их нечистые ручонки,
их змеистые хвосты,
позвоночный хруст удавки.
Мне невинно лгут цветы
на невинной нежной травке.
Но, святой и крепкий Бог,
велика Твоя поблажка:
слышу детский голосок,
сходный с жалобой барашка.
Мифы незыблемы
Потчевать польского графа чарджуйскою дыней,
ропот цикад уловляя с чужого баштана.
Свет предвечерний. Волос нескрываемый иней.
Долгие проводы. Чары. Ахматовиана.
Чем это кончится? Для чужестранца – Парижем.
Брошку пришлет чаровнице. Припишет другая
сладость вниманья себе, но на общий нанижем
счет – недомолвки, не споря, не предполагая
зависти тайной к сопернице. В этом ли дело?
Брошка парижская, кажется, не уцелела.
Ломтем нетронутым в небе – чарджуйская дыня.
Хоры цикад отзвенели на лоне баштана.
За горизонтом палящая дышит пустыня.
Мифы незыблемы. Чары. Ахматовиана.
Вдогонку
Теряли много вы по малолетству,
не зная, кто проходит по соседству
походкой, устремленною в века.
Вам игры предпочтительней пока.
И вечность вас не приглашала в гости.
Играли в бабки вы, в бараньи кости,
не ведая – что в римскую игру.
И на бахчах шалили поутру,
где вечно бледным питерцам в пустыне
нет вожделеннее чарджуйской дыни.
Красавица была уже в летах,
поблекшая, но с песней на устах.
Вслед не глядели юные подранки
ей, одесситке и петербуржанке.
Лишь марши несмолкающей войны
звучали в них и были им нужны.
И как один бы встало под ружье,
равняясь,
поколение твое.
А у нее ташкентские страницы
смешали боль, надежду, небылицы
в той комнате, где обведен тоской
на штукатурке – профиль колдовской.
В базарный день в тени ее встречая,
ты мимо проходил, не замечая.
В мангале угли ей не ворошил,
орудуя, как здешний старожил.
Но были у тебя свои запросы
и свой ташкентский двор многоголосый,
в который не вписался этот лик.
И лишь вдогонку
твой запел арык.
Вотчина
…Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
А. Блок
Нет, Господь, я дорогу не мерю,
Что положено, то и пройду.
Е. Кузьмина-Караваева
I
Причерноморье – не преддверье рая.
Не причитай над мертвою лозою,
привыкшая сидеть, не причитая,
над очагом с остывшею золою.
И запустенье кажется позором,
и по тоннелям частые обвалы.
Спустись неосвещенным коридором
в пиленковские винные подвалы.
Сырые своды, каменные плиты.
Зажги фонарь, оправленный жестянкой.
Единственное имя не забыто –
кочевницы, что стала парижанкой,
чей предок – своевольный казачина,
а может, нет. Ну кто же верит в мифы?
Сияющей она была дивчиной,
как золото, что ей отдали скифы.
Что наверху? – Лечебницы, бюветы,
петербуржан несолнечные лица.
Не каждой выполняются обеты,
не каждой покоряются столицы.
Зачем она дыханием просторным
дразнила неустойчивого Блока?
Чтобы, мелькнув апостольником черным,
умчаться безвозвратно и высоко?
II
Сиренью в устье Старого Арбата
ты снилась мне ночами напролет,
уловленная наскоро цитата
по гамбургскому счету не пройдет,
и нечего спросонок обольщаться,
что возвратилась лучшая весна,
как некогда у нового палаццо
пролив немного красного вина.
Я отменю любимую прогулку –
объявлен туристический маршрут.
Пиленкову былому переулку
недаром имя прежнее вернут.
Стоит толпа у памятного знака,
глядит на полированный гранит.
С причала забежавшая собака
на свежем дерне, не смущаясь, спит.
Что гений места кажет ей, собаке,
в бессмысленном дневном прилюдном сне?
Увы, я засыпаю лишь во мраке –
и наяву нельзя увидеть мне
кузнечика, сложившего подкрылки
на пожелтевших скифских черепках,
апостольника узел на затылке
и четки в нецелованных руках.
Гурзуф
Еще пейзажем кипарис не правил,
когда отмечен Пушкиным Юрзуф.
Шаляпин пел.
В холстах Коровин славил.
И мимо шли Осман или Юсуф.
А девочка Цветаева скучала,
одна, в гурзуфской крепости, весной.
И думала,
спускаясь,
у причала:
ну кто сюда отправится за мной?
Плаж
…идем на плаж, но и там дышать нечем…
МЦ
Как МЦ говорила: плаж…
А по возрасту эта блажь,
впопыхах и с дырой в кармане?
Словно тащат нас на аркане.
Пошути: ветеранский стаж.
Вырывается вздох протяжный:
пойман пинией зверь бумажный,
рвется в небо…
Прорвешься, змей?
День не пляжный, сезон не пляжный.
Крыша выбрана без затей.
Как МЦ говорила: плаж.
Чайка, галька. Любой пейзаж.
Отголоски портовой брани.
Ей, хоть плавало все в тумане,
было ведомо, в чем кураж.
Море морщится. Дети спят.
Ровно пять. Облака. Накат.
Кувыркаются два дельфина.
Приближаясь, слепит машина.
Фары выключи, психопат!
Таня
Она блуждала в смешанном лесу,
и о сухой валежник спотыкалась,
и, узкие лодыжки ободрав,
все ж под ноги упрямо не смотрела,
и, голову задравши к небесам,
увидеть неба слабый лоскуток
стремилась сквозь сомкнувшиеся кроны.
Неправда, что она рвалась туда,
где тайны ремесла уже не тайны,
где ямб уже не может надоесть,
а друг не обойдет на повороте,
и к морю не рвалась, и никогда
не шлялась у заветного обрыва,
чтоб невзначай в пучину заглянуть.
Высокий берег с выжженной травой,
с одной полынью, выжившей к июню,
опять зацвел, сбегают по откосу
дельфиниум, чертополох, шалфей.
И макаронник душными цветами
украсил крону, сирый тамариск
сменив, поблеклый, с патлами седыми.
Я вспоминаю Таню, и смотрю
на дерево, подросшее в руинах
часовни, навещаемой теперь
лишь ящерицей или сколопендрой,
и, жадным пеньем, рвущимся с небес,
подогнана, заглохшею тропою
вдоль брошенного кладбища бреду.
Смоленская типография
Возникнув в затяжном апреле,
отчаянно привычна грусть.
С посмертной книжкой не поспели
к рождению… Да ну и пусть.
Забьет смоленскую дорогу
другой товар, иная кладь.
А эту книжку-недотрогу
из типографии – не брать!
Слезой, припрятанной по-женски,
кого попало не дари.
Пусть обретаются в Смоленске
твои клесты и снегири.
Не лечит время, а калечит.
На тающий апрельский лед
на Патриарших ветер мечет
весь сор, который соберет.
Недостает душе отваги,
она боится новой лжи.
Лежи в оберточной бумаге,
судьба посмертная, лежи.
Большая суша
В мегаполисном сердце под аритмию,
под сурдинку ее, под ее угрозы
обещаю себе, что вовек не стану
покидать семихолмие роковое.
Вяйнямёйнен в чреве Огненной Рыбы
добывает огонь, и рокочет руна,
ищет Винонен, грустно темнея ликом,
злую истину в море огненной влаги.
Возвращаюсь с Запада восвояси.
Спешно маятник жизни, со свистом, ходит.
Возвращаюсь с Востока, лечу обратно.
Автобаны мелькают, теряют звезды
то одну, то другую свою подругу.
Трус объял острова – и Большая Суша
на японский ужас глядит китихой,
ошельмованной двадцать первым веком.
Потому ль, что слаба я глазами стала,
стала видеть не то, что глазами видят,
от Балтийского моря до Океана
по былым маршрутам шутя гуляю.
Календарное время вполне условно:
целый век растеряешь – и не заметишь.
Светом Рыб освещали мое рожденье,
но далекие звезды так тускло светят.
А теперь догорел и светильник Тани –
и хронически не хватает света.
На Ваганьковский холм налетела туча,
для февральской погоды закон не писан.
Кверху брюхом теченье плотвицу тащит
и пером золотым, как с огнем, играет.
Воспоминание
Где был барак – встал дом панельный.
Ждет самогонный аппарат,
чтобы незваный гость похмельный
забрел почти не наугад.
Грибы Малеевки степенной
сивушный заглушает дух.
Не пригодившийся для сцены,
свой стих ты пробуешь на слух.
Я не промолвила ни слова,
не похвалила ни строки.
Пустынно, Галя Чистякова,
у остывающей реки.
Грусть солоней, чернее груздя,
осенней луковицы злей.
В бараке у речного устья
мне зелья мутного налей.
Два стихотворения
Памяти Раисы Романовой
1. Край скалы
Надежду оставляла на потом,
жила, с погодой споря.
Ровесница плывет за Флегетон,
а я сижу у моря.
Легко прошли высокие валы.
Всему готова смена.
Волна уже задела край скалы.
В ногах – мальки и пена.
2. Прощанье
Не причитала, стоя у могилы,
и не крестила лба.
И при народе слезы погасила,
когда пошла гульба.
Прощай, ты не была из богомолок.
Не ставь и мне в вину,
что втихомолку возле книжных полок
тебя я помяну.
«Рубцов рифмовал кипарис с постаревшей актрисой…»
Рубцов рифмовал кипарис с постаревшей актрисой,
о Ялте всерьез, как о даме с собачкой, мечтал.
Рубцов любовался счастливой и статной Ларисой
и женских стихов, по возможности, в руки не брал.
Но пышная Ялта напомнила мне о Рубцове.
Вознесся Ай-Петри, в предутреннем небе паря.
И нищая гордость в случайно оброненном слове
зажглась неразменной монеткой ни свет ни заря.
«Испытала на мгновенье жгучей зависти укор…»
Испытала на мгновенье жгучей зависти укор.
Замела свое томленье флорентийским платьем в пол.
И поверх голов смотрела, щурясь, с красного крыльца,
угадав, что песня спета, вся допета до конца.
А судьба неотвратима, а до сути не дошло.
По ступеням Таормина одиночество сошло.
И на щиколотке тонкой, претерпевшей тяжесть лет,
утешая, как ребенка, драгоценный пел браслет.
Но в сиреневой сарпинке, при своей льняной луне,
хороша, как на картинке, ты еще приснишься мне.
Соглядатай
…у горбуна есть преимущество сложности перед человеком с прямым позвоночником.
Б. Ахмадулина. Дневник 1962 г.
Была она чуть-чуть кокеткой.
Живой питон служил горжеткой.
Бродячий пес кормился с рук.
Был суетлив ее досуг.
Следя глазами за удодом,
в саду обедала с уродом,
за стопкой местного вина
обласкивая горбуна.
Удод был птицею пригожей,
в полете с бабочкою схожий.
Имел дятлоподобный клюв.
Она любила привкус клюкв,
развесистых в любой причуде,
и то, что пенилось в посуде,
и самовольство и размах
пошире, чем в моих стихах.
Я, соглядатай бледнолицый,
смотрю, как лакомится пиццей
приблудный пес, брезглив и дик.
А у нее и срыв, и тик,
и жаль ее ль, себя ли жальче,
и перстень иль нечистый пальчик
подманивает. Стыдно мне.
И бездна горечи в вине.
И забродил инжир на блюде.
И больше ничего не будет.
И мой вот-вот наступит срок,
бесспорный, как вина глоток.
Невольно с ней я разделила
инжир, лиловый, как чернила.
И к трезвой памяти приник
ее бредовый черновик.
Увы мне, в городской пустыне
я все еще трезва поныне,
и все никчемней мой досуг.
И пес не кормится из рук.
И общий градус жизни убыл.
И перстень закатился в угол.
Как охраняют твой покой
сады за огненной рекой?
Архив
N. N.
Стихи отмечены с друзьями перепалкой,
неистребимою проблемой долгостроя,
но обрываются на теме самой жалкой,
не замолчать ее: видна, как паранойя.
Вот вам все прелести общения с архивом,
на произвол судьбы оставленным хозяйкой.
Я не наследница! – скажу почти с надрывом, –
не архивистка, не подруга, не всезнайка!
Я не бездельница – посмертный том составлю
с подсказкой, с датами, с учтивым послесловьем.
Смолчу, где надобно, постыдной не ославлю
страстишкой, спрятанной под смертным изголовьем.
Часть третья. Проза
Воспоминанья зарифмую. Мемуарная повесть
Всё это, честно говоря, я пишу всё же как литератор, а не как человек, который зовет что-то обратно.
Юрий Олеша
Глава первая
Утро. С погодой – не совсем ясно. Все окна нашей с Ф. квартиры выходят в переулок и упираются в два неоднократно на нашем веку менявших свой облик дома. Тот, в котором жил главный редактор «Воплей» (журнал «Вопросы литературы») Лазарь Лазарев и в который наведывалась наша с Ф. подруга Таня Бек, кажет нам глухую когда-то часть боковой стены. К ней примыкает здание бывшего Минтяжмаша. Наш с Ф. дом «литературный». В тридцатые годы три этажа стойкого старинного подворья надстроили двумя этажами под кооператив драматургов. Знаменитости давно вывелись, и теперь литературу представляем только Ф. и я.
Не то чтобы я прячу своего спутника за литерой. Так привыкла именовать в записных книжках. Пусть будет Ф. Мы сопутствуем друг другу много лет: в будущем году прозвенит немыслимая круглая дата. Не хочу озвучивать заранее.
Я много чего не хочу озвучивать по разным причинам. И за перо взялась с неохотой. Конечно, не за перо, а за комп. Всему виной карантин и фейсбук, на котором я имела неосторожность объявить о наличии у меня заполненных «мировою чепухою» (так говорил Блок) записных книжек. И даже описала некоторые экземпляры писчебумажных шедевров, подаренных знающими толк в красоте подругами.
Записные книжки, блокноты, рабочие тетради скопились с тех пор, как появилась московская крыша над головой. Систематические, хотя порой и бестолковые записи тянутся с 1980 года. Черные чернила случайных авторучек и наработанную ими с трудом отмывавшуюся мозоль на среднем пальце исчезли, уступив место любимому и долговечному темно-лиловому паркеру с кнопочной подачей стержня, черной пастой и золотой стрелкой-держателем. Он и сейчас со мной и естественным образом попал в стихи.
Память всегда вибрирует от слова «чернила». Бабка моя закидывает густо-фиолетовые таблетки в приспособленный для этих целей медицинский флакон с хорошо притертой пробкой и разводит чернила такой густоты и фиолетовости, что они, высыхая на бумаге, отливают золотом. Для деда, доктора, и для меня, школьницы. Деду чернила наливаются в хрустальный кубик со вставной емкостью и крышкой-куполком, на которой поблескивает бронзовая змея, отполированная дедовыми пальцами. У меня – фаянсовая непроливайка, которую я ношу в вязаном чехольчике и затягиваю его шнурком. Сначала футляры вязала бабушка, а потом и я научилась сносно вязать всякую мелочь из гаруса, орудуя крючком. Перья да и ручки у нас с дедом были разные. Его перо называлось «скелетик», а мое – № 86. От дедовой ручки пахло сандаловым деревом, а я свои вставочки вечно теряла. Судя по всему, и Евгений Евтушенко писал 86-м:
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу,
строчу приподнято…
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к граненому карандашу.
Я выглядываю в окно.
Мансарда над бывшим Минтяжмашем в нетронутом снегу. Сосулек с прошлого снегопада не появилось. Снег сгребает и сбивает сосульки по ночам пара таджиков в оранжевых робах. Работают шумно, страховки не видно. Заходят с разных концов, идут по самому краю, лупят по водосточным трубам, по гирляндам сосулек и громко перекликаются.
На лазаревском доме несколько лет назад на глухой боковой стене вместо упраздненной пожарной лестницы вдруг появился балкон – почти под самой крышей. Кто-то преобразовал чердак в пентхаус. Но столь же не предусмотренная никем мансарда теперь почти подпирает балкон. Света нигде нет, только лестничный пролет в глубине Минтяжмаша слабо освещен. Жизнь в нем давно замерла. А в перестройку бурлила. Через раскрытые окна было слышно, как чиновники разговаривают по телефону с регионами, не стесняясь в выражениях. Ночами, если не выли потревоженные припаркованные машины, были слышны московские куранты. Потом был затяжной ремонт, пожар на верхнем этаже, долгое возведение довольно нелепой мансарды.
Мы с Ф., оба неместные, по стечению обстоятельств поселились здесь тридцать три года назад (опять запоминающаяся дата!).
В том, что мы на излете перестройки вселились в эту квартиру, напоминавшую тогда бомжиное логово, повинна я одна. Ф., завидев ветхий фасад, с которого осыпались кирпичи, наружный ржавый лифт с кабинкой вроде тюремного бокса, облезлую, не единожды взломанную дверь, на которой красовался номер «13», хотел было дать задний ход. Мне удалось его удержать. Внутри были две изолированные (!) комнатушки, висящие гирляндами провода, среди которых – оборванный провод от радиоточки и, самое отрадное, наличие вожделенной проводки для телефона, без коего мы ухитрялись обходиться все эти годы. Предстояло «достать» унитаз, ванну, газовую плиту и колонку. Все это называлось «косметический ремонт». Он тянулся три месяца. Но у нас начали выходить книжки, и за переводы стихов исправно платили. Казалось, что вот-вот…
За несколько лет до вселения на Кисловку у нас с Ф. уже был шанс въехать в настоящую Москву. Союз писателей выдал двум обладателям писательских билетов ордер на квартиру. Билет этот дорогого стоил – давал право иметь дополнительные метры в качестве рабочего кабинета и даже, если повезет, на обладание казенной дачей. На дачу мы не замахивались. Радовались перспективе проводить двадцать четыре дня в году в коктебельском Доме творчества.
Квартира была хоть и не новая, но в престижном доме сталинской архитектуры на Фрунзенской набережной, с не помню чем торговавшим магазином «Тимур» и отделением милиции на первом этаже. В новую эпоху нашим соседом был бы журнал поэзии «Арион». Завидное помещение в соседнем доме получил для своего детища основатель и главный редактор Алексей Алёхин. Это стоило ему десятка лет неустанных хлопот и, надо полагать, большой кровушки. Слава Алёхину и «Ариону»! Журнал цвел двадцать пять лет. Увы, недавно закрылся.
Но вернусь к ордеру на мою с Ф. первую писательскую квартиру. К радости обладания примешивалась немалая доля грусти. В квартире жила и ушла в мир иной бывшая голливудская звезда и дочь писателя Куприна Ксения. С несметным количеством кошек. Ксения Александровна ушла, а усатых-полосатых выгнали вон. Хорошо, если они обосновались на ближайшей помойке.
Писатель-юморист Рейжевский, который слыл в писательской среде знатоком квартирного вопроса и вплотную занимался им в московском Союзе писателей, посоветовал Ф. не медлить со вселением. Ф. последовал его совету. Среди наших друзей обладателем тачки был один Даниил Чкония, он родился за баранкой.
Ф. сидел с поэтом Анатолием Брагиным за столиком ЦДЛ. При нем была раскладушка. Чкония прихватил Ф., Брагина и раскладушку, и они поехали на Фрунзенскую.
Толя в Москву так и не перебрался, уже много лет его нет. Он был очень самовитым поэтом. Всегда его вспоминаю, перечитывая «Анну Каренину». О месте гибели Анны, на станции Обираловка, ставшей Железнодорожным, он писал:
Ее перезвали гуманно.
Кто выдумать лучше бы мог? –
Не в честь, разумеется, Анны,
А в честь всех железных дорог.
Стихотворение называется «Город Железнодорожный». Так при Толе называлась Обираловка, знаменитая, на самом деле, еще тем, что в тех местах испытывал аэродинамическую трубу в своем поместье один из братьев Рябушинских, Дмитрий. Был он крупным ученым и умер в Париже французским академиком.
…Ключа Ф. не выдали. Толя одним рывком открыл опечатанную дверь. Квартира была темноватая, окнами во двор. Вместо свежести Москвы-реки на трех поэтов пахнуло кошачьим логовом. Изодранные обои, пропитанный едкой кошачьей мочой паркет. Вместо двух обещанных комнат имелось всего полторы: комната и не очень вместительная ниша – альков. Сюрприз. Но не последний. Через несколько минут появился милицейский наряд, сопровождаемый очень возбужденными двумя дамами. Началось выяснение, кто есть кто. Ф. гордо предъявил ордер. Брагина представил слесарем, а Чконию – личным шофером. Разборка длилась недолго. Поэты малодушно отступили. Дамы были хоть и не прекрасные, но непростые: вдова и дочь генерала Доватора. Поселиться по соседству с заслуженной матерью собиралась дочь. У нее имелся ключ от квартиры Ксении Куприной. И ордер. Хоть и выданный на несколько дней позже, чем наш.
Поэты ретировались, прихватив раскладушку. Она еще много лет служила нашим гостям уже на Кисловке. ЦДЛ был в шаговой доступности, оттуда часто забредали засидевшиеся поэты. Продавленную, ненужную раскладушку мы отнесли на помойку прошлым ковидным летом.
В свою теперешнюю квартиру № 13 мы вселились через пять лет после описанного инцидента.
Кончился 2020-й, ковидный год, и, уже оглядываясь, хочется скорей перескочить через него, через все, что с ним связано. Сидя в четырех стенах, поневоле двигаешься не вперед, а назад: последняя наша Ялта была в 2019-м, близкие к итоговым книжки вышли – и у Ф., и у меня – в 2019-м. Его «Разумеется, оплачено» и моя «Общая тетрадь». Собраны и свалены в кучу черновики, дневники, записные книжки. Вспомнено про четыре не изданных книгами романа Ф. (опубликованы в «толстяках»). И один мой. Разобраться бы с этим. Страшно. Малодушно начата новая рабочая тетрадь, проставлена дата. В голову лезет всякая чепуха и отвлекает от неизбежной возни с прошлым. Один шаг вперед – три шага назад.
Сегодня я вырвалась в цирюльню. Это моя парикмахерская недалеко от Киевского вокзала называется «Цирюльник», вернее, целая сеть парикмахерских, но эта ближайшая. Те, что в шаговой доступности, не по карману. Такой уж у меня ареал. Впрочем, не факт, что дорогие мастера лучше моей Юли. Надо же так назвать: «Цирюльник»… Пока Юля закрашивает мои седины, я, держа свою карманную записную книжку так, чтобы ей не мешать, зачитываю «скомороший присказ», выписанный специально для нее:
Бреем, стрижем бобриком-ежом,
Лечим паршивых, из лысых делаем плешивых,
Кудри завиваем, гофре направляем,
Локоны начесываем, на пробор причесываем…[2]
Юля родом из Элисты, там живет с мамой ее сын, она их кормилица. Окончила художественное училище, чувство цвета у нее безошибочное. Похожа на девочку, тоненькая. Не люблю никого ни с кем сравнивать, но придется признаться: похожа Юля на актрису Чулпан Хаматову. Гораздо больше, чем я, голубоглазая, смахивала в юности на молодую же Ахмадулину. Я морщилась, когда мне говорили это в качестве комплимента. Юля сбежала в Москву от мужа-калмыка. Марина Цветаева напророчила: «Москва, такой огромный странноприимный дом…» Могла бы выпасть Юле и лучшая доля…
Я рассказываю ей, как еще не так давно уличные цирюльники в Первопрестольной таскали с собой ящик с инструментом и парфюмом, а на шее – деревянный стул. Профессия из древнейших. Средневековый цирюльник – тот же врач общей практики. Карантин тоже оттуда же, из Средневековья: quaranta giorni, сорок дней. Столько у итальянцев длился чумной карантин. А наше с Ф. затворничество затянулось по разным причинам на целый год. Ковид, можно сказать, приложение к основной проблеме. Целый год живем в непривычном для нас режиме. Но пока не хочется этот год выворачивать наизнанку. Живем дальше.
Есть у меня старый-престарый ивовый плетеный короб без крышки. В него я свалила свои рабочие тетради, блокноты, записные книжки, сохранившиеся с тех пор, как мы с Ф. перешли к относительно оседлой жизни. Достался этот раритет от кого-то из прежних обитателей нашего дома на Кисловке. Короб вместительный, размером с современный большой чемодан на колесиках. У нас есть такой на двоих с Ф., еще, правда, сак с ним в комплекте. Он уже лет десять служит нам в совместных путешествиях. Я очень люблю всяческие описания дорожных предметов – в классике ли, в более поздних и современных текстах – всегда интересно.
Для своего короба я придумала легенду, вполне правдоподобную. Как будто короб принадлежал Книппер-Чеховой. Во-первых, она несколько лет прожила в этом доме, пока в старости не съехала в более удобное жилище в переулке, который носит имя ее бывшего любовника. Во-вторых, в былые времена короб с крышкой, замком и кожаными ремнями выглядел очень стильно. А Ольга Леонардовна была дама очень элегантная. Есть описание, как она ехала со своей труппой на гастроли в теплушке. Сидит на своем чемодане и читает книгу в изящном переплете, а перед ней – будущий мой короб с постеленной белоснежной салфеточкой и на нем – свеча в подсвечнике. Сидит она царственно, в оренбургский платок не кутается, лежит он у нее на плечах, как мантия. На гастроли ездила часто, короб поистрепался и был оставлен за ненадобностью при переезде на новую квартиру. Послужил все же еще кому-то, пока не оказался во владении вдовы ныне забытого драматурга Гайдовского.
Вдова была последней обитательницей квартиры № 13, приютившей нас с Ф. Родственников она при жизни не жаловала, никого к себе не прописывала, поэтому выстроенная драматургом Гайдовским в тридцатых годах кооперативная квартира перешла Союзу писателей. Предыстории мы с Ф. не знали, дом и квартира были в 1987 году в таком плачевном состоянии, а квартирный вопрос в Союзе был не столь уж острый, чтобы нам это жилище не досталось. Дом стоял унылый и, казалось, вот-вот развалится.
Никто не предполагал, что в конце перестройки объявится в Москве бывший глава Штази[3] Маркус Вольф, сын известного писателя-антифашиста и брат знаменитого гэдээровского кинорежиссера. Его хлопотами дом подновили, и мы с Ф. присутствовали на открытии почти под нашими окнами солидной полированной мемориальной доски из черного мрамора с именами отца и брата Маркуса Вольфа (антифашисты жили этажом выше нас). Он произнес прочувствованную речь на чистом русском языке, а старая дама в чуть побитой молью дорогой довоенной шубе вытирала глаза платочком и называла его Мишенькой, которого помнила озорником и советским школьником. Не знаю, чья вдова была эта дама, она вскоре покинула этот мир и соседствующую с немцами квартиру. Маркус Вольф тоже умер, претерпев гонения от общенемецких властей объединившейся Германии.
Драматургом Гайдовским я не интересовалась, но Ф. аккуратно собрал все его валявшиеся на полу заброшенной квартиры тетради и бумаги, нашел обиженную племянницу вдовы и попытался вручить ей архив. Но племянница, вывезя еще до нашего появления мебеля́ ар-деко, бумагами не заинтересовалась. Ф. не нашел в архиве ничего стоящего и с чувством вины унес наследие Гайдовского на помойку. На этом не успокоился, прочел в Ленинке две его ранние пьесы и позднюю прозу. Гайдовский был одессит, и дуновение одесского причала пахнуло из мусорного бака на взгрустнувшего Ф. В дальнейшем одессит занялся литературной поденщиной и, мягко говоря, обыкновенной халтурой для заработка. Все-таки решение квартирного вопроса и тут сыграло свою коварную роль. До глубокой старости он не дожил, но вдова жила долго и зарабатывала на жизнь, сооружая шляпки для жен преуспевающих писателей. Я листала ее модные парижские и берлинские журналы и много лет, натирая старый дубовый паркет, находила в щелях и под плинтусами заржавленные шляпные булавки.


