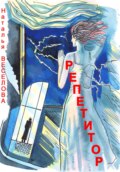Наталья Александровна Веселова
Одиннадцатый час
Когда же наступил вечер, говорит Господин
виноградника управителю своему:
позови, работников и отдай им плату,
начав с последних до первых.
И пришедшие около одиннадцатого
часа получили по динарию.
Евангелие от Матфея
Гл. 20, ст. 8-9
Есть два типа идеальных убийств. Первый – это те, которые заранее не планировались. Что проще: познакомились на улице; человек приятный оказался, душевный. На скамейке пива попили, холодно стало, решили к нему заскочить. Не всухую же сидеть – по дороге в магазин завернули. Жена знакомца с тремя малыми детьми у тещи в деревне, квартира пустая. Еще посидели, поговорили, и оказалось, что не такой уж он и приятный, каким, гад, прикидывался. Он тебе – Россия, мать твою, Третий Рим, а ты ему –не фига не Рим, она не Третий, а третьего мира страна. Ему за державу стало обидно, он ее решил отстаивать. С оружием в руках. А оно тут как тут – вы ж колбасу только что резали. Но ты ловчей оказался: мракобеса порешил, с лестницы кубарем скатился – и бежать, куда ноги несут… А уж ночь давно, темень, никто тебя не видел… И это – «глухарь». Если совесть есть – можешь до гробовой доски мучиться, а если нет – радоваться, что концы в воду. В местной газете статью пропечатают: «После совместного распития спиртных напитков… Неизвестным собутыльником… Ведется следствие…». Ты, еще, может, хмыкнешь: «Ведите-ведите…».
Совсем другое дело – преступление тщательно продуманное, спланированное до мелочей. И, если ты не аллигатор преступного мира, а просто решил чуть-чуть исправить несправедливое отношение к тебе злодейки-жизни, убрав из нее явно лишнюю особь, то тебя вычислят непременно.
Ты ведь полный дурак, дорогой мой убийца, особенно, если из интеллигентов: чем сложнее наворотишь – тем легче тебя изловить, голубчика. Ты ведь существо впечатлительное и, совершив преступление, пожалуй, тут же, на месте, и закуришь. Да еще какой-нибудь уникальный сорт папирос, которые станешь давить в пепельнице эдак по-своему, по-хитрому. А потом, когда следователь, ничего не подозревая, будет ласково тебя допрашивать, в его кабинете рассеянно закуришь те же самые… А если ты женщина, то фильтр еще и помадой обмажешь – особенной, морковной.
Кроме того, незадачливые душегубы роняют рядом с жертвой волосы, перчатки, обрывки записок, оставляют четкие следы обуви, которую долго и бережно хранят, стирают отпечатки пальцев отовсюду, но только не с орудия убийства, ухитряются даже оставить в живых свидетеля – говорящего попугая – и доверчиво сообщают ему свое имя. Убегая от возмездия, такие злодеи еще помогут старушке-соседке вкатить в лифт тележку и хорошо, если не забудут при этом стащить с головы черный чулок. А сам лифт – преграда для них неодолимая: они почти непременно там застрянут – до прихода милиции – а если и доберутся чудом до своей машины, то уж позаботятся о том, чтобы кто-нибудь сверхсознательный успел записать номера.
Помилуйте, а способы? Травят подотчетным ядом, украденным с собственного рабочего места. Стреляют из на себя зарегистрированного пистолета – и нет бы его выбросить в ближайшую канаву – так ведь в кармане таскают! Душат своим ремнем, забывают его на шее удавленника, после чего гордо удаляются, ежесекундно подтягивая брюки. И это все – за год продумав навязшее на зубах «алиби», точно рассчитав время по секундам, проявив инженерный гений при подготовке экипировки… Нет никого обреченнее непрофессионального убийцы.
Но вот еще один способ выйти сухим из воды: если все улики указывают на тебя. Указывают абсурдно до нелепости, указывают до такой степени, что ты – уважаемый, уравновешенный, с ученой степенью – выглядишь узкоглазым имбецилом, каким не являешься. А главное – у тебя нет мотива. И вот уже совестливый молодой следователь краснеет перед разъяренным начальством и шепчет:
– Я разобраться хочу, товарищ полковник… Уж слишком явно.. Не бывает так… Умный человек, ученый, не допустил бы столько промахов… Один-два – я поверил бы! Но пятнадцать! Да и зачем ему это?! Зачем?!
– Да с чем тут разбираться! – грохочет, наливаясь кровью, полковник. – Дело ясное, как на ладони! Оформляй, ядрить-твою… Передавай!
Умудренный полковник. Но старший лейтенант смело вскидывает честные глаза (прямой, открытый взгляд, комсомольская непреклонность):
– Не… Не буду! Я… Я докажу!
– Двое суток даю. Умник! – свирепеет начальство. – Молоко на губах не… А туда же… Детективов начитался… Заграничных… Двое суток!
– Так точно, товарищ полковник! – радостно вытягивается недавний выпускник Академии.
И он докажет. Будь уверен – он докажет, что ты невиновен. Он не двое суток – он жизнь свою на это положит – ради справедливости…
А я знаю одно еще более идеальное убийство. И совершила его именно я.
Вот, перечитала начало письма – и испугалась: поймете ли Вы? Не поморщитесь ли, приняв за «ерничество» – иначе действительно, зачем превращать трагедию в гротеск? Откуда, спросите себя Вы, все это в женщине, которая никогда уже… Вы думаете, я не знаю? Вы всерьез считаете, будто я верю, что хронический бронхит лечат в онкологическом диспансере? Ах, мою бдительность, конечно, усыпили. Словно нехотя, словно я вырвала нечаянно тайну, по секрету сообщили, что там, где-то глубоко внутри, возможна опухоль. О, это, разумеется, неточно: вот они погасят очаг бронхита, и тогда – может быть! – ее обнаружат и вылечат (она ведь, само собой, маленькая, с горошину, а в доброкачественности – кто же сомневается?).
У меня рак, дорогой друг, если Вы еще этого не знаете. Неоперабельный – иначе меня давно бы прооперировали. Вместо пятидесятого размера у меня теперь сорок четвертый. Немеет половина тела поутру, и особенно – когда я стою под душем. Они говорят мне, что это сосуды – совсем, что ли, за идиотку меня держат? Нет, видно, врачебный постулат «больной – идиот» – вечен. А если уж слишком явно видно, что больной не идиот, тогда он больной «трудный».
Итак, давайте договоримся с Вами: раз я сама себя не щажу – и Вы меня не щадите. Когда придете, и мы сядем с вами на той нашей скамейке под окном лаборатории, где так воняет дерьмом из форточки, Вы не будете меня убеждать в моей неправоте. Чудные откровения могут возникнуть между людьми, принявшими за аксиому, что один из них скоро умрет. Одному бояться нечего, что его выдадут: собеседник все равно собрался туда, где и без него всё знают, а другому абсолютно безразлично, что подумают о нем здесь, где не знают ничего; а он еще оттуда, из места всеобщего знания, над ними посмеется. Если только это будет иметь для него хоть какое-то значение. Только не говорите мне, что я еще сто лет проживу и успею сделать много добрых дел – иначе я Вам и писать, и верить перестану…
Была одна книга (а может, мне кажется, что была, и просто кто-то собрался ее написать да не вытянул) – «Дневник женщины, которую никто не любил». Счастливица! Меня не любили не только как женщину, а вообще – никак. Возможно мама, но только до трех лет, пока не родилась Ленусик. Мать рассказывала потом (не мне, конечно, тому же Ленусику), как, привезя из роддома, ее положили почему-то на диван – такой толстый сверток с розовыми бантами, где всегда больше одеял, чем младенца.
Доживал у нас тогда старый пудель Леон. Чуткий и умный, насколько может быть таковой собака. Не дряхлый еще, но уже исполненный старческого достоинства, утративший врожденную пуделиную резвость – переставший бегать, то есть летать на ушах-крыльях, а (смутно помню) чинно шагавший на прогулках между лужами. И вот, тихий, как полено, сверток, до которого Леон по-первости и не снизошел, вдруг издал, как я понимаю, отвратительный крысиный писк. Мама, конечно, сказала, что это был серебряный колокольчик. И тогда Леон неожиданно…
– Ирина Викторовна, температурку мерить!
Женщина вздрогнула и обернулась:
– Давайте.
Молоденькая сестричка в крахмальном колпаке робко шагнула и протянула больной градусник, а потом тихо отступила назад, прикидывая, спросить ли бодро: «Ну, как чувствуем себя сегодня?» или сразу ретироваться, чтоб не нарваться. Она, может, всего секунду и помедлила, но уже прозвучал металлический голос:
– Ну, и что вы здесь хотите выстоять?
Девушка бросилась за дверь, едва не хлопнув ею, но, вовремя спохватившись, осторожно ее прикрыла.
Больную эту в отделении ненавидели все – от заведующей до младшей санитарки. Не то чтобы больная была скандальная, из тех, что изводят персонал придирками или истериками. Таких можно окоротить, даже голос повысить, пригрозить выпиской – словом, поставить на место. Но эта была, определенно, хуже. Она не капризничала, не закатывала сцен, а только как вскинет на кого тяжелый тусклый взгляд – у жертвы и сердце захолонет. Ничего не было в ней пришибленно-умоляющего, мол, что хотите со мной делайте, только скажите, что у меня не рак. Вопросов лишних не ставила, но на те, что задавали ей, отвечала жестко, точно, не односложно, но и без излишних подробностей, а в тоне чувствовалась нескрываемая вражда.
Считается у врачей – так внушали больным и в их отделении – что врач и больной должны стать союзниками против общего врага – лютой болезни. Но Ирина Викторовна байки этой не признавала, и лечащему врачу порой казалось, что по эту сторону баррикады – он один, а по другую – больная в тесном содружестве со своей болезнью, словно сговорившись с ней вдвоем его, врача, доконать. Ровно и терпеливо обещал он на утреннем обходе, что она еще допьет вот эти, а потом он назначит те, а в инъекциях дозу увеличит, да еще назначит другие – и тогда, он уверен, Ирину Викторовну вылечит. Но вместо обычного молящего взгляда – «Правда вылечите, доктор?» – он ясно читал в ее непреклонных глазах: «Ан нет, не вылечишь!» – читал и терялся. Потому что знал, что вылечить нельзя: рак намертво захватил в свои клешни ее худое тело, прочно обжился в организме, дав метастазы в печень, позвоночник и в некоторые лимфоузлы – и ничто не могло приостановить это победное шествие.
Если врачи перед Ириной Викторовной терялись, то медсестры откровенно побаивались ее. Больная обращалась с ними как с нерадивой прислугой: делала резкие выговоры и жестко одергивала. Это не входило в разряд пустых придирок, все замечания давались по существу – так что жаловаться было не на что, и сестры смирились бы, если б не повадка – а больная имела повадку власть имущей.
Приходилось терпеть – терпеть потому, что лежала она в отдельной коммерческой палате, за которую платила немалые деньги, а в отделении, как и во всем диспансере, существовало негласное твердое правило: шугать можно только бесплатных, то есть бесправных, особенно тех, что лежат в коридорах, коммерческим же подобает вежливое, осторожное отношение. Люди они богатые, происхождение денег неизвестно; выскажешь такому что-нибудь от сердца, глядишь – а на следующий день ты уже безработный, а то и просто тебе в твоей же парадной морду начистили.
Полгода вспоминали в отделении об одном происшествии.
Лежала в такой же палате тихонькая старушка. Сын к ней приходил – ласковый и почтительный. Все бы хорошо, да старушка, повадилась ходить под себя по шесть-восемь раз на дню. Шесть-восемь раз ее мыли и переодевали, терпеливо указывая на кнопочку в стенке: нажмите, мол, тут, мамаша, и вам судно принесут. Но «мамаша» кнопку упорно не замечала, хотя не была в маразме и не страдала недержанием. Почему – кто разберется! Однажды новенькая сестричка не выдержала и не то чтобы нагрубила, а просто запричитала громче, чем следует: «Да что ж это такое! Вы слова русские понимаете или нет?! Вы что – кнопку не видите?! Вам что – руку не поднять? У нас, думаете, дел других нет, кроме как ваши экскременты выносить?! Вот еще раз сделаете так – и до ночи в грязном пролежите! Может, тогда научитесь…».
В тот же день, когда девушка возвращалась с работы (кстати, по оживленной улице), рядом с тротуаром тихо тормознул «мерседес». Очень быстро и слаженно девушка была втащена внутрь – так, что даже испугаться не успела. На заднем сиденье расположился почтительный сынок больной старушки. Сестричка только рот открыла, но слов уже не было. Она услышала:
– Хамить, кажется, на рабочем месте изволите, сестрица? Нехорошо, милая, нехорошо… Хамство – мать всех пороков… Но вы больше не будете. Это я вам обещаю…
И она больше правда никогда не хамила. А только радовалась, что дешево отделалась: всего месяц провалялась на больничном после того, как «скорая» подобрала ее далеко за городом, где начинались капустные поля… Более того, это послужило уроком вежливости для всего отделения.
Вот и сейчас маленькая Олечка, тихо прикрывшая дверь, прикусила губку: обидно, конечно, но нужно терпеть.
– Что, опять? – подошла к ней дежурная с другого поста.
– Хоть бы померла скорей, – всхлипнула Олечка. – Вроде, и особенного ничего, а житья нет. Как зайду к ней в палату, весь вечер потом работа из рук валится…
– Не бери в голову, – посоветовала коллега. – На всех обижаться – нервов не хватит.
– Да-а, а мне еще градусник у нее забирать, уколы делать и таблетки давать… Хоть бы она ими подавилась! – переживала Оля.
Со всеми другими больными, общительная и добрая от природы, она непременно находила контакт, случалось, доверительно болтала «за жизнь», во всяком случае, устанавливала добрые отношения. Но эта женщина с узким желтым лицом, сурово поджатыми губами, с аккуратным узлом некрашеных и оттого неопределенно серых волос казалась недоступной для живого человеческого общения. Она не то что ушла, а словно бы умерла в себя: никого не подпускала, тем более не допускала или, еще хуже, не снисходила. И хоть бы равнодушие! Читался порой в ее взгляде глубоко загнанный внутрь интерес – будто выжидала чего-то или даже, припав, как смертельно раненный хищник, готовилась к последнему роковому прыжку…
…взметнулся – другого слова нет. Он завертелся по комнате, растерянно тычась то матери, то отцу в колени, и кружил, взвизгивая и поскуливая, пытаясь донести до хозяев то, что они, должно быть, еще не знали: там – живое! живое – там!
Через неделю Леона усыпили: мать не смогла вынести страшное зрелище шерстяной озабоченной морды, вечно просунутой сквозь прутья детской кроватки. Ей все виделись мириады смертоносных микробов, так и сигавших с собачьего носа на беззащитное грудное дитя.
Но меня усыпить было нельзя – меня погубили иначе. Спустя лет примерно семь мне удалось подслушать разговор матери и ее подруги – они делились за чашечкой кофе впечатлениями о своих детях. Тогда я узнала, что «когда родилась Маленькая, и мы привезли ее домой, я вдруг увидала Ирину – ее как раз няня привела с прогулки. Как меня тогда это потрясло – ты не представляешь! Я увидела, что Ирина – это же слоненок! Ей три года тогда исполнилось. Но, пока не было Ленусика, мне и в голову не приходило, что она такая большая, честное слово! Это просто откровение какое-то было!».
Но на самом деле пора откровений настала для меня. С того дня ни одна живая душа на свете не назвала меня больше не только Ирочкой, Иришей, но даже просто Ирой. Я превратилась в Ирину пожизненно, и с какого-то невнятного момента добавилось «Викторовна» – но до этого прошло много черных лет моего детства и юности.
Из самой необозримой дали, из тех дней, когда я еще не поняла, что меня никто не любит и не полюбит никогда, доносится лишь взвинченное материнское:
– Ирина, не прикасайся к Маленькой! Она такая хрупкая, ты ей что-нибудь повредишь!
– Ирина, не подходи кроватке с немытыми руками!
– Ирина, не дыши Маленькой в личико: ты ее чем-нибудь заразишь!
Да, это из тех незамутненных лет, когда я, дура мослатая, еще любила Ленусика. Когда я еще гордилась тем, что я, «большая» и «старшая», теперь вместе с другими «большими», но только «взрослыми» могу заботиться о крошечном человеческом росточке, лелеять] его, быть по-серьезному полезной…
Вот, помню, Маленькую собираются поить из бутылочки с соской. Я торжественно беру ее в руки и осторожно несу маме…
– Что ты хватаешь бутылку грязными лапами?! Она должна быть стерильной, придурковатая девка!
Придурковая девка трех с половиной лет в ступоре ужаса застывает посреди комнаты, пальцы ее немеют и разжимаются…
– Няня-а! Няня-а! Сил моих нет, уберите отсюда эту кретинку! Она чуть не угробила Маленькую!!
«Ничего-ничего», – успокаивала я себя лет в шесть. – «Ленусик скоро вырастет и тоже станет «большая». И тогда мама-с-папой полюбят меня обратно».
Страшная, роковая ошибка: Ленусик не выросла никогда. Мне было шесть, а ей три, мне десять, а она только пошла в школу, мне пятнадцать, а ей двенадцать, и она болеет корью; мне восемнадцать, и уже я болею скарлатиной, и пятнадцать свечей торчат в одиноком торте, который мне не попробовать, потому что и ложку воды не проглотить…
Я навсегда – Ирина. С длинной лошадиной мордой, украшенной, к тому же, безобразными очками с толстыми стеклами; у меня несообразно огромные кисти и ступни, а сама я маленькая, и потому кажется, что я вечно ковыляю в одних ластах и размахиваю другими, всегда сокрушая что-то по дороге.
А Ленусик – навечно Маленькая. Она и родилась-то на свет идеальным младенцем, таким и умерла в тридцать семь лет, ко всем успев приласкаться и сознательно ни разу не причинив зла… Ее принесли из роддома кудрявую – и кудряшки не вылезли, как положено, а со временем превратились в чудесные пшеничные локоны. Синие, как у всех новорожденных, глаза так и не посерели и не покоричневели, а остались наивно-ультрамариновыми и обросли, к тому же, густыми угольными ресницами, ни разу в жизни не потребовавшими краски; румянец как зацвел однажды – так и погас лишь за неделю до смерти – и это несмотря на то, что рак, скосивший до того почти всю нашу семью, вцепился в нее рано, сожрал изнутри – но снаружи тронуть не посмел…
Красавица? Нет. Личико было, в общем, неправильное, ротик маленький (правда, мило надутый), носик излишне тонковат. Но все компенсировалось гармоничной резвостью, ничуть не напоминавшей моего бессильного, неэстетичного, угловатого редкого веселья. Вся Ленусик была – солнечный лучик, радующий без разбора и праведника и подонка…
Двухголовое чудище по имени «Мама-с-Папой», к которому я не знала, с какой стороны и подступиться, для Маленькой чудесно разделилось на «Мамусика» и «Папусика», и она умильно ластилась к обоим, горячо и нежно лепеча и сюсюкая – и так всю их жизнь.
Ах, как она умела вышивать и щебетать, играть и тараторить! Глазки да лапки, лапки да глазки – не налюбуешься!
Вижу, друг мой, как Вы раздражаетесь, но так как Вы человек добрый, то внутренне уже ищете мне оправданий: детская ревность, сама никогда не была матерью, не может оценить…
Бросьте, мне оправданий нет. Положим, в детстве-то я понять не могла, но ведь позже обязана была – одуматься! Ведь если дети начнут судить своих родителей – так судить! – то куда же придет человечество? Не беспокойтесь, я очень благодарна им. Что не усыпили, как Леона, или проще – не утопили в ведре, как котенка, в живых оставили! И дали мне возможность вкусить прелести умирания в онкодиспансере… Вы уже возмущаетесь? Еще несколько сценок не желаете ли? «Довольно-довольно, я все понял: несчастное детство…». Ничего, вот вам для полноты впечатления. Сцена: две смежные комнаты (проходная, конечно, моя – разве можно тревожить Маленькую?). Время действия: раннее утро.
Дверь в палату приоткрылась, и в щель деликатно просунулся колпак сестры Оли.
– Третий час ночи, Ирина Викторовна… Не положено… Может, снотворного вам принести? – почти взмолилась она.
Трудная больная, до того быстро писавшая в зеленой тетрадке, сидя поперек кровати, мрачно посмотрела в ее сторону:
– Не беспокойтесь. Дадут. Не в эту ночь, так в следующую. И – «ты заснешь надолго, Моцарт…».
Она была права, и Оля это хорошо знала, хотя ни на эту, ни на следующую ночь не надеялась: врач сказал, что еще недели две, а потом – на наркотики. Кроме того, добрая сестричка считала, что это варварство – обреченному больному давать еще и снотворное; ему и так жизни осталось с гулькин нос, и он же две трети этого носа должен проспать. Но больному же такого не скажешь – приходится опять бормотать:
– Не положено. Свет после отбоя… Нужно спать. А если не спится – пить снотворное.
Но больная в который раз показала зубы
– Я за свои деньги могу хотя бы умереть как мне нравится?! – сурово спросила она.
В таких случаях отвечать полагалось следующее: «Как вы може те так говорить? Кто вам сказал, что вы умрете? Здесь вас лечат. И – вылечат. А для этого нужно…». И далее – про режим, про союз с врачом, и все в таком духе. Оля представила, как все это будет жалко звучать и лишь выдавила:
– А только вот свет… После отбоя… – и под тяжелым взглядом попятилась в темноту коридора.
Ирина отложила свою зеленую тетрадку и сползла на пол. Осторожно выпрямилась – и так осталась стоять посреди палаты, прислушиваясь к тайным сигналам изнутри тела. Боли как таковой не было, но чувствовалось чье-то чужое враждебное присутствие. Здесь, рядом с правой грудью. И еще на спине, вдоль позвоночника там словно крался кто-то. Трудно ворочалась шея, правые рука и нога были холоднее, чем левые – это чувствовалось явно. Ирина тронула правую щеку сначала правой же рукой. Странное ощущение: между пальцами и кожей как бы лежал лист бумаги. Дотронулась левой, ощутила сухую кожу, но щека едва воспринимала прикосновение…
Женщина поджала губы, присела на корточки и принялась равномерно постукивать и поскребывать пальцами по полу. Было неправдой, что здесь, в больнице, она ни с кем не сошлась: вскоре из-за тумбочки в углу послышалось ответное шебуршанье и легкий топоток. Вот показалось черное недоверчивое рыльце, а затем вылезла и вся гостья – не очень крупная крыска. Ирина быстро достала из кармана махрового халата кусок сухарика и на открытой ладони протянула зверьку. Он помедлил чуть, но потом опасливо приблизился и – схватил угощение. Убедившись, что да, годится, принялся расправляться с сухариком на месте, и приятно было на это посмотреть: сначала быстро раскрошил острыми его резцами на небольшие кусочки, а потом начал деликатно поедать их, присев на задние лапки и держа гостинчик в передних, очень похожих на человеческие руки, только миниатюрного размера. Быстро-быстро двигались тонкие усики, подрагивал от удовольствия неэстетичный облезлый хвост.
Ирина тихонько, боясь спугнуть, присела рядом на пол и шепотом сказала:
– А я тебе имя придумала: Лизиска.
Животное невозмутимо продолжало ужин, но Ирина убедила себя, что мордочка приобрела озадаченное выражение. Она сочла нужным пояснить:
– Это на самом деле Мессалина. Третья жена императора Клавдия. Любая крыса на свете лучше ее. Но ты не обижайся. У Мессалины был псевдоним – когда она инкогнито посещала римские притоны, Лизиска. По-моему, хорошо выходит, а? Крыска-Лизиска. Правда, может, ты не Лизиска, а Лизис – у тебя ж не проверишь. Но какая разница. Так договорились? Лизиска-Лизиска-Лизиска, – позвала Ирина, быстро скребя пальцами по голой ноге.
Произошло удивительное. Плотно поевшая Лизиска напряглась было, будто собравшись бежать, но вдруг передумала. Она проворно вскарабкалась на вытянутую ногу женщины и, суетливо перебирая лапками, понеслась вверх к животу. Здесь Ирина поймала ее и погладила. Крыса замерла от удивления, очевидно, решая – сразу куснуть или пока перетерпеть. Но Ирина вдруг сама выпустила крысу. Крыса изумленно осталась на месте: вроде не укусила еще – чего прогнали?
– И у тебя тоже! – прошептала Ирина.
Только что на боку зверя под кожей она случайно нащупала твердую опухоль размером с половинку грецкого ореха. Тем временем Лизиска осторожно пятилась, дойдя уже до колена. Она решила пока не кусаться. Уже несколько дней новая обитательница палаты по ночам привечала ее то кусочком изумительной колбасы, то пряником, однажды даже шоколадкой; может, завтра еще даст. Она отбежала на метр, грациозно присела на всякий случай – вдруг и сегодня будет добавка. Крыса не ошиблась. Тяжело поднявшись, человек подошел к холодильнику, достал оттуда большое желтое и пахучее, отломил изрядный кусок и бросил изумительное лакомство меньшему брату.
И опять чинно ела Лизиска, а Ирина качала головой, глядя на нее сверху:
– Вот как, значит… Вместе, значит, помирать будем… А может ты чуму переносишь, а? Валяй, я не против. Даже экстравагантно умереть в раковом от чумы…
…Давно уж убежала в свою неизвестную нору Лизиска, и даже небо светлело потихоньку, а все неподвижно лежала больная, лежала с открытыми глазами, лишь иногда глубоко вздыхая и кашляя, и тогда незримый враг, окопавшийся в груди, оживал колющей болью, и разом отзывалось в других, совсем неожиданных местах, вчера еще казавшихся надежными… А когда гасла боль, задремывал незнаемый мучитель, приходила и наваливалась на тело и душу смертная мука. Не было в ней ничего определенного – ни неуемного желания уцелеть, ни тяги к навеки покидаемому. Это была когда «болит там не знаю где» или «уйди то не знаю что» – словно душа сошла с постоянного места и никак не может найти обратный путь. Уж спят глаза и не открыть их, а не наступает забытье; заметаться бы, перевернуться – да нельзя: боль-то уснула, на разбудить бы спящую собаку… И чем светлее окно – тем острей душевная мука… И вот, сдается Ирина, протягивает руку к звонку. Приходит вялая и хмурая спросонья растрепанная Оля без колпака небрежно делает укол… Так повторяется почти каждое утро. Только днем выбирается больная из палаты и, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, идет по коридору в столовую за кипятком…
…А знаете, у меня теперь есть ручная крыса, своя собственная крыса. Она повадилась вылезать из невидимой дыры где-то за тумбочкой – и я прикормила ее. Не знаю, почему люди так брезгливо относятся к крысам. Я давно читала, что по уровню интеллекта они стоят гораздо выше обожаемых человечеством собак – где-то в одном ряду с дельфинами, обезьянами и слонами. Мою я разглядела: даже симпатичная мордаха, совсем не злая, настороженно-умная. А как ест! Одно слово – культурно. Ни крошки не уронит, все подберет – и на меня позыркивает, забавно так. Все впечатление портит, конечно, хвост. Вы знаете, какие у крыс хвосты: словно дождевой червяк по недоразумению порос редкой шерстью. Но на него не обязательно обращать внимание, а если взглянуть на вопрос хвоста с другой стороны, то можно найти его даже умилительно-жалким. Моя Лизиска бодра и прожорлива, но – тяжело больна. Представьте, у нее тоже рак. То есть, конечно, как поставить диагноз крысе? Но все же, эта опухоль на боку, которую я случайно нащупала… Плотная, неподвижная и как бы бугристая. Словом, у меня теперь завелся отличный товарищ по умиранию и даже появился некоторый спортивный интерес: кто первый добежит?
Вы думаете, что знаете, откуда такой цинизм: она, мол, до леденящего ужаса боится – вот и одевается в тяжелую броню скепсиса; это ее способ борьбы, в которой она все равно надеется победить… Не спорю. Очень возможно.
Однако я обещала Вас попотчевать еще парой-тройкой баск из моего несчастного детства, откуда, как считаете Вы, пустило корни мое теперешнее человеконенавистничество.
Итак, раннее утро. Будильник только что отгремел, призывая меня в седьмой, Ленусика – в четвертый класс. Я лежу, уютно свернувшись калачиком под одеялом, и борюсь – нет, борет меня – сладкий утренний сон. Зима, холод снаружи. Кажется, если только чуть пошевелиться – и он прорвется ко мне, захватает ледяными лапами, пустит озноб от макушки до пяток. Это самые тяжелые минуты, самые мучительные.
Но вот распахивается дверь, грохнув бронзовой ручкой о стенку – там уже изрядная вмятина от этого ежеутреннего распахиванья. Тут же безжалостным режущим светом вспыхивает во все лампы люстра под потолком, и мать раздраженно бросает мне па ходу:
– Ирина, вставай! Семь часов!
Она мчится через мою длинную, как трамвай, проходную комнату (лет сорок назад здесь спала на сундуке прислуга) – в заднюю, миленькую, как шкатулочка, – к Ленусику. Дверь между комнатами остается приоткрытой, и до меня долетает оттуда совсем другой голос, каким может говорить не мать, а только Мамусик (это она присела на край кровати Маленькой):
– И кто это тут у нас такой тепленький? И кто это тут свернулся таким комочечком? И чьи это тут кудряшки выглядывают?..
– У-уу… – доносится в ответ.
Это изумительно, но даже в самую первую секунду просыпания Ленусик уже умеет придать своему мычанию грациозную, капризную томность.
– Просыпайся ма-аленькая, просыпайся ла-апушка, мама сварила кака-ао, – уговаривает Ленусика Мамусик.
– У-уу… – отвечает Ленусик. – Не хотю-у…
Она именно так и произносит – ну, не совсем так, а нечто среднее, присюсюкивающее, между «т» и «ч». Маленькая – так Маленькая. И я будто перед собой вижу, как она капризно надувает губки и очаровательно натягивает на кудряшки одеяло повыше.
– Спа-ать ха-атю-у…
У них с Мамусиком начинается любимый утренний ритуал: Маленькая несильно сопротивляется, принимая прелестные позы избалованного ребенка, а мать воркует, шутливо дергая одеяло:
– Чьи это глазки никак не проснутся? Проснись, глазок… Проснись, другой… Проснись, маленькая девочка…
Мне за это время полагается встать, умыться обязательно ледяной водой – там уж отец проследит, чтоб газовая колонка была выключена – надеть жесткое и колючее форменное платье и сесть за стол в просторной кухне, где домработница, уныло зевая, бренчит посудой и толкает меня дряблым бедром, пронося мимо чайник. За стеной в ванной мама сама причесывает и умывает младшенькую теплой водой: девочка слаба здоровьем (с чего это взяли – неизвестно) и от ледяной не закалится, как я, а непременно простудится и умрет. За другой стеной, в родительской спальне, грузно топает ногами и бухает дверцей зеркального шкафа Папусик – ему уходить раньше и он уже позавтракал. За окном неподвижно стоит непроглядная, насквозь промороженная тьма, в которую мне через полчаса выходить из теплой прихожей…
Но б то утро, о котором пишу, – я специально нишу именно о том утре, потому что другие были похожи друг на друга, как пуговицы со школьного платья, – я в первый и последний раз в детстве взбунтовалась.
Ослепительная ярость, давно зревшая, вдруг взорвалась во мне, и я застонала как припертый в угол преступник, заскрежетала зубами и укусила подушку. Еле перевела дыхание и процедила: «Подождите… Вы у меня увидите…». Дура, что я могла продемонстрировать, кроме бессильного протеста некрасивого и неумного подростка?
Из комнаты Ленусика слышались звуки, свидетельствовавшие, что она-таки изволила подняться: вздохи, зевки, бормотание, радостный лепет матери… Вот мать входит обратно в мою комнату, где, предполагается, меня уже нет, и –