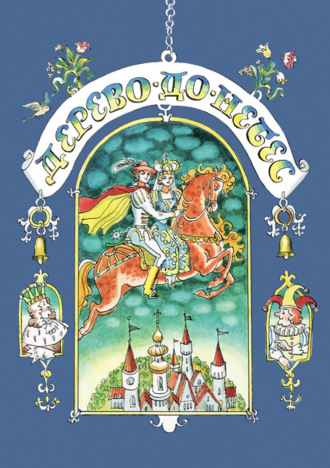
Народное творчество (Фольклор)
Дерево-до-небес (сборник)
Златорунный баран

Жил на свете бедняк, и ничегошеньки у него не было, зато детишек было больше, чем дырочек в сите. Никак не мог бедняк детей прокормить: один день поедят кое-как, а другой день и вовсе так. Горюет бедняк, не знает, что ему делать.
– Подросли ведь уже, не маленькие, – твердит отец сыновьям, – ступайте наймитесь к кому-никому в услужение.
Да только сыновья выросли один другого ленивей, все норовили за отцовой спиной отсиживаться. Хотя все, да не все. Самый малый дельный был паренек, не мог он глядеть на то, как братья его день-деньской баклуши бьют.
– А и верно, подамся я службу себе поискать, – сказал он отцу, – авось и найду что-нибудь подходящее.
Покивал ему отец: что бедному человеку делать – уйдет сынок, одним ртом будет меньше.
И пошел младший сын по свету бродить, по горам и долам. Однажды вечером в селенье пришел. Узнал от людей, что живет в том селе богатей, овец у него что звезд в небе, и нужен ему для отары пастух. Пошел паренек к богачу прямо в дом, так и так, рассказывает.
– Ну что ж, – говорит хозяин, – ты в самую пору явился, я ведь только что своего овчара прогнал. Заступай на его место. Ежели целый год в отаре не случится урона, если сбережешь всех овец моих честь по чести, вознагражу тебя щедро, увидишь.
Так и уговорились: ежели через год об эту самую пору ни одна овца не пропадет из отары, даст хозяин за то пастуху барана златорунного, и заживет бедняцкий сын барином – уж такой это баран особенный.
– Будь по-твоему, хозяин, вот моя рука – не свинячья нога, – сказал парень.
И ударили они по рукам, как между венграми водится.
Дал ему хозяин свирель сладкозвучную, щедро едою снабдил, и погнал паренек отару в луга.
Надобно вам сказать, что хозяин тот три дня за год считал, да вот беда – никак не попадался ему до сих пор пастух, который бы этот год выдержал. А дело-то в том, что пастух должен был днем и ночью отару стеречь, глаз не смыкая, иначе, только задремлет, волки столько овец унесут, сколько бедняку на всю жизнь хватило бы.
Однако наш паренек не дремал, сторожил исправно. А как стала дремота одолевать, вынул он свирельку сладкозвучную и ну играть на ней да наигрывать. Что тут началось! Сколько ни было овец в отаре, все, как одна, пустились плясать. А впереди всех – златорунный баран. Этот баран все возле паренька держался и плясал теперь лучше всех, чинно да красиво, не наглядишься.
Так времечко и прошло, год условленный минул, и погнал пастух отару назад. Неподалеку от ворот достал он свирель сладкозвучную, заиграл, и овцы, приплясывая, пошли во двор. Посреди двора хозяин стоял и считал овечек. Увидел, что ни одна не пропала, глаза так и заблестели.
– Ну, паренек, я тебе вот что скажу: старость моя уже не за горами, полжизни прожито, а такого пастуха у меня еще не бывало. Отдам я тебе барана златорунного, как обещал, пусть он принесет тебе счастье.
Обрадовался паренек, от радости места себе не находит. Распрощался с хозяином чин по чину и со златорунным бараном домой зашагал. Шли они потихоньку, особо не торопились и под вечер добрели до какой-то деревни. Постучался пастух в хороший дом, попросился у хозяина на ночлег.
– Гость в дому – Божий дар, – сказал добрый человек, – заходи, сынок, располагайся.
Вошел паренек, но и барана златорунного во дворе не оставил, с собою в дом привел. Уж как его все разглядывали, как любовались! А больше всех – дочка хозяйская, глядела, не могла наглядеться, всю ночь глаз не сомкнула, о баране златорунном думала. И надумала: встала с постели, тихо прокралась к барану, чтобы, пока паренек спит, вывести чудо-барана во двор и где-нибудь спрятать до времени. Да только что из этой затеи ее получилось? Обхватила она руками барана за спину, а руки-то к руну и приклеились! Обе приклеились – не оторвать.
Проснулся парень, видит – девушка к спине барана приклеилась, подумал: «Что ж теперь делать? Надо ведь дальше двигаться, не оставлять же барана… А девушка, коли так, пускай тоже идет».
Сказано – сделано. Вышли все трое на улицу, берет пастух свирель сладкозвучную и давай играть-наяривать. А баран как пошел танцевать, а девушка у него на спине ну ногами приплясывать. Чудеса, да и только, по улице пыль столбом. Какая-то женщина увидела и, как была с лопатою, только-только хлеб в печь посадив, выбежала на улицу и пустилась девицу честить да лопатой охаживать:
– Вот тебе, вот тебе, дуреха безмозглая! И не стыдно тебе, девушке, эдак срамиться? Вот же тебе, вот тебе!
Да только недолго она разорялась, лопатой размахивала. Лопата вдруг – стоп! – к спине девицы приклеилась, женщина – к рукояти, а парень-то знай играет-наигрывает, а баран приплясывает, и девушка – у него на спине, и лопата – у нее по спине, и женщина та бранчливая за лопатой кружится. Так и шли-плясали по улице.
Улицу прошли, видят: церковь стоит, и выходит из церкви священник, а за ним и паства его. Прихожане смеются, а священник разгневался крепко.
– Нечестивцы, – кричит, – экое позорище учинили, да еще в праздник!
Подбегает он к женщине да тростью ее! Он единственный раз и ударил – трость мигом приклеилась к спине женщины, сам святой отец к другому концу трости приклеился да и пошел вслед за всеми приплясывая. Запричитали тут старухи, заохали, руками всплескивают:
– Ох, ох, еще уведут от нас златоуста нашего! Люди, люди, не допустим, отстоим святого отца!
Тут вся деревня поднялась, святого отца догонять кинулась, только б ухватиться да назад оттащить. Да дело-то непростое вышло: кто его ни коснется, тут и прилипнет, и так один за другим. А парень знай на свирельке своей свистит, а баран танцует, и девица у него на спине пританцовывает, лопата по ней пляшет, женщина-крикунья за лопатой кружится, ее самое трость обхаживает, за трость священник цепляется, свое выкаблучивает, а за ним вся деревня ходуном ходит.
Плясали, плясали, так и в город пришли. Город не простой, сам король в нем живет. Завернул наш пастух в корчму, свирель в котомку засунул: пусть-ка передохнет баран златорунный, да и деревня вся тоже.
Стал пастух корчмаря расспрашивать, что за город такой? Корчмарь ему объясняет: королевский город, король здесь живет. Так, слово за слово, и о том рассказал, что король-то шибко горюет из-за дочки своей раскрасавицы: живет королевна на свете, и ни разу не видели даже улыбки на ее светлом личике. Объявил король всенародно, что отдаст свою дочь за того, кто ее рассмешить сумеет, да только напрасны были все старания: королевна по-прежнему унылая и печальная, словно небо в осеннюю непогодь.
«Ладно, – подумал пастух, – надо и мне счастья попытать, вдруг да рассмешу королевну». Пошел пастух к королю. Рядом с ним баран, за бараном вся деревня идет. Танцевать не танцует: не стал пастух свирель на улице вынимать. Во дворце пастух велел доложить о себе королю.
– Хочу, – говорит, – попытаться, может, и сумею королевну рассмешить.
– Что ж, сынок, будь по-твоему, – отвечает король, – попытайся и ты. Но если не сумеешь ее рассмешить, быть твоей голове на колу.
– Эх, государь-батюшка, – говорит пастух, – второй жизни не бывать, смертыньки не миновать, будь что будет, а я все ж попытаюсь. Пусть только королевна на терраску выйдет.
С этими словами спустился пастух во двор, а король вместе с дочкой на терраску вышел – стоят ждут, что там пастух затеял, на какие проделки мастер. А пастух и ждать не заставил. Вынул из котомки свирель сладкогласную да и заиграл на ней. Ох, начался тут пляс, не хватало только нас: танцует баран, на спине у него девица пританцовывает, лопата по ее спине пляшет, женщина-крикунья за лопатой крутится, ее самое трость обхаживает, за трость священник цепляется, свое выкаблучивает, а за ним вся деревня ходуном ходит.
– Свет не видел таких плясок! – веселится король.
Смеется король, а королевна, королевна-то ему вторит! И придворные все хохочут до слёз. Тут баран как подпрыгнет, а потом и еще, да все выше – девица вдруг соскочила с него, лопата в сторону отлетела, женщина-крикунья от лопаты освободилась да и от трости священниковой, священник тоже за трость держаться не стал, тут и вся деревня златоуста своего отпустила – каждый сам по себе в танце кружится, друг перед дружкой выплясывает.
Взмолился король:
– Хватит им плясать! Не то помру со смеху, и королевна моя помрет тоже.
– Ну, коли так, будь по-вашему, – сказал пастух и свирель в котомку упрятал.
Тотчас и пляске конец настал.
– Слушай меня, пастух-молодец, – сказал король, – за то, что дочку мою сумел рассмешить, бери ее в жены и половину моего королевства в придачу.
Призвали священника деревенского к королю, домой не пустили, и он вмиг молодых обвенчал. Пировала во дворце на свадьбе и вся деревня, цыгане пришли, и их за стол усадили. А молодой король, пастух бывший, тотчас велел кареты шестериком запрячь и послал их за отцом своим да за братьями. Добром щедро с родней поделился, всех в люди вывел. Так и живут они в тех краях, коль не померли.

Прекрасная Церцерушка

Было ли не было, а видать, все же было, жил на свете бедный вдовец, и было у него две дочки, да такие красавицы, что хоть и за королевен сошли бы. Верно вам говорю!
И жила по соседству с ними вдова. Однажды старшая дочь бедняка – ее Церцерушкой звали – играла у себя во дворе, а соседка-вдова подозвала ее к забору и говорит:
– Поди, девочка, к отцу своему и скажи, чтоб он взял меня в жены, а я буду вас с сестричкой холить да лелеять.
Обрадовалась Церцерушка, побежала к отцу, все ему рассказала.
– Что ж, это бы и впрямь хорошо, а, дочка? – сказал отец да в тот же день и окрутился с соседкою.
Неделя идет, другая, мачеха к девочкам добрая-предобрая, эту погладит, ту приласкает.
А потом вдруг будто ее подменили: чуть что, руки в ход пускает, все швырком да рывком, и не накормит толком. Совсем приуныли сиротки.
– Вот что я скажу тебе, сестричка, – не вытерпела наконец Церцерушка, – злая она женщина оказалась, того и гляди, совсем нас со свету сживет, так давай лучше сами пойдем куда глаза глядят.
– Ладно, сестрица, – отвечает меньшая, – пойдем куда глаза глядят.
Встали они утром пораньше, сказали мачехе, что в лес пошли бы по ягоды, если она их отпустит.
– Ступайте куда хотите, – говорит им мачеха, – все равно от вас никакой пользы нет.
А когда девочки за ворота вышли, тихо сказала им вслед:
– Сделай так, Господи, чтобы они в лесу водицы испили из ямки, чьим-нибудь копытом оставленной, и тотчас в животное то обратились!
Да только Церцерушка эти слова все и услышала!
Горько было у девочки на душе, когда брели они по дороге в сторону от отчего дома. Добрели наконец до леса.
Церцерушка сестренке наказывает:
– Смотри же, не вздумай водицы испить из следа зверя какого-нибудь.
Пообещала сестренка не пить, даже если очень захочется, и разбрелись обе, ягоды собирают, друг на дружку и не оглянутся.
Через какое-то время малышке страсть как пить захотелось, а вокруг – ни родничка, ни ручейка. Девочка чуть не плачет, кажется, помрет, если хоть глоточка воды не выпьет. Идет она дальше, горько всхлипывает, ищет, да ничего не находит, и вдруг – копытца какого-то след, а в нем вода дождевая поблескивает. «Ну и пусть я в животное обращусь, не испить не могу, невтерпеж мне!» Бросилась девочка наземь, приникла к воде, одну капельку отпила и тотчас обратилась в косулю.
А Церцерушка тем временем ягод набрала полную корзину, оглянулась – где же сестрица? А ее и не видно нигде. Она туда, она сюда, кричит, зовет малышку. Никакого ответа. Заплакала Церцерушка в голос, так что по лесу стон прошел.
Вдруг видит, бежит к ней косуля, подбежала, заблеяла горестно, руки, лицо ей лижет.
Еще пуще расплакалась Церцерушка:
– Не послушалась ты меня, сестрица милая, стала теперь косулей!
Обняла она косулю за шею и повела через лес, а сама все плачет-убивается. Но только вскорости ей и еще горше заплакать пришлось, когда увидела она вдалеке охотника. За плечом у него висело ружье двуствольное, а впереди ищейка бежала, дичь вынюхивала. Боже мой, боже мой, вот сейчас увидит охотник косулю да и застрелит ее! Церцерушка мечется, озирается, место ищет, где бы сестрицу спрятать. Видит, стожок стоит, обрадовалась, за стожком с сестрицею вместе укрылась.
Да только учуяла ищейка косулю и стрелою к стожку подлетела. Обнюхать обнюхала, а обижать косулю не стала. С ходу назад повернула, подбежала к хозяину, скачет, прыгает вокруг него, повизгивает жалобно – до тех пор не угомонилась, пока он ей кусок хлеба не бросил. Подхватила ищейка хлеб на лету и назад к стожку побежала. Бросила хлеб перед Церцерушкой и опять к хозяину кинулась, опять скачет вокруг него и еще жалобней повизгивает.
Удивился охотник: что это с собакой приключилось, никогда она на охоте есть не просила. Но все же швырнул ей еще кусок хлеба. Ищейка опять есть не стала, опять к стожку побежала, у ног Церцерушки кусок уронила – да назад к хозяину, передними лапами на грудь ему встала, заскулила жалостно, будто ей хребет перебили.
– Ну, погоди же, – сказал охотник, – дам я тебе еще хлеба кусок, но уж на этот раз сам погляжу, куда ты его относишь. Быть того не может, чтобы ты столько хлеба сама сожрала!
Подошел охотник к стожку да так и замер, язык проглотил: видит, стоит за стожком девушка красы невиданной и горькие слезы льет, а к ней косуля жмется и блеет прежалобно. Обхватила Церцерушка косулю обеими руками, просит охотника:
– Дяденька охотник, не тронь косулю, она ведь сестренка мне!
Засмеялся охотник:
– Ах ты, девчушка милая, что это ты придумала? Ну как же косуля сестренкой твоей может быть?
Рассказала тут Церцерушка охотнику, кто они и откуда и какая беда с ее маленькой сестрицей случилась.
Жалко стало охотнику сестер, даже слезы на глазах показались.
– Не бойся, Церцерушка, – сказал он, – не трону я сестрицу твою, а возьму вас обеих к себе во дворец. Ведь я, чтоб ты знала, король.
Взял он Церцерушку за руку, Церцерушка обняла косулю за шею, и так пошли они во дворец.
Король приказал пустить косулю в красивый сад и там содержать в довольстве, а еще приказал, чтобы всяк, кто добра себе желает, Церцерушке во всем угождал, все ее желания наперед угадывал.
Так все и стало. Церцерушку каждый старался побаловать, и только одна старуха, бывшая нянька короля, ее невзлюбила. Была у старухи дочка, и надумала она короля на своей дочке женить. Потому как – чуть не запамятовал – король-то был еще не женатый. Каких только королевен ни предлагали ему в жены, а он нет да нет, ни одна не понравилась.
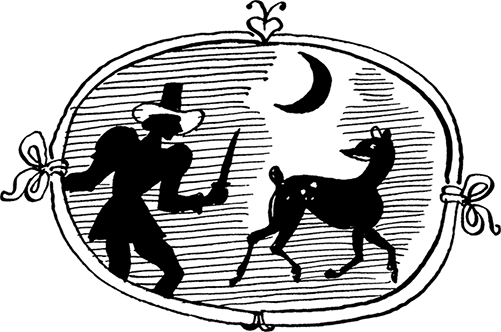
Старуха нянька этому радовалась, но, увидев Церцерушку, испугалась. «Видать, вот кого хочет король в жены взять, – рассуждала она про себя, – да только не бывать этому!»
Дождалась она, когда король уйдет из дому, пошла с Церцерушкой в сад, где косуля жила. Посреди того сада озеро было. Вышли они на бережок, старуха и говорит:
– Постой, Церцерушка, не спеши, поглядись в озеро: экая ты раскрасавица!
Глянула Церцерушка в озеро, а злая старуха тотчас ее в воду и столкнула.
Ах как жалобно косуля блеяла, вокруг озера бегала! Но злая старуха посмеялась только:
– Можешь блеять, хоть разорваться, лишь бы не заговорила!
К вечеру приходит король домой – и прямо в покои Церцерушки. А Церцерушки и след простыл. Он старуху, няньку свою, зовет:
– Где Церцерушка?
– Да где ж ей быть? В сад, верно, ушла. Она же всегда там с косулей играет.
Король – в сад, ищет, зовет Церцерушку, да только нет ее нигде, одна косуля вокруг него бегает, блеет, смотрит жалобно, а сказать ничего не может.
Опечалился король, загоревал совсем. «Наверное, – думает, – надоело ей во дворце, ушла от меня, скитается где-нибудь». Велел он искать ее по всему королевству, золота сулил горы целые тому, кто найдет ее, а только что толку? Хоть бы и полкоролевства посулил – никто Церцерушку не видел.
Король теперь целыми днями стал в саду пропадать, косулю ласкает, выспрашивает: «Скажи, где Церцерушка?» Но бедная косуля только блеет в ответ, сказать ничего не может.
Увидела это злая старуха, испугалась: король только что не живет в саду, с косулей беседует, а ну как придет ему в голову, что Церцерушку кто-то в озере утопил? И решила она косулю извести. Выждала, чтоб ушел король из дворца, призвала поскорей мясника и повела его в сад – косулю резать.

Заметила косуля мясника с ножом, заметалась, бедная, бросилась бежать вокруг озера со всех ног, а ножки-то у нее слабые, того гляди, подломятся. Злодеи и звали ее, и приманивали – не дается им в руки косуля. И послушайте, какое чудо тут приключилось! От страха великого вернулась речь к бедной косуле, и вот как она заговорила:
Выдь, Церцерушка, сестрица любимая,
Восстань со дна озера,
Из чрева рыбьего!
Уж точат нож про меня, безвинную,
Мою кровь пролить тут замыслили!

А король как раз воротился домой и в сад зашел. Услыхал он, что кричит сестра Церцерушки, мигом придворных своих созвал, всех, кто был, заставил озеро вычерпать да рыбу поймать преогромную. Вспороли рыбине брюхо, а там Церцерушка – как сейчас ее вижу – живая и невредимая, только еще в сто раз краше.
Что тут радости было – и не расскажешь! Косуля скакать принялась, да так, что перекувырнулась дважды и вдруг – вы только послушайте! – вдруг опять превратилась в красивую девушку.
А тем временем озеро наново водой налилось. Велел король схватить колдунью и в озеро бросить. А Церцерушку во дворец повел, тотчас позвал священника, и священник в тот же день обвенчал их. Сели молодые в скорлупу яичную и поплыли вниз по речке.
Если на берег выйдут, гостями вашими будут.

Силач Янош

Было где-то или не было, а все ж таки было, говорят, за морем-океаном, за семьюдесятью семью царствами-государствами и еще на кривой вершок подальше, если отсюда глядеть, жила на свете бедная женщина с лежебокой сыном. Днем и ночью трудилась бедная женщина, пряла да ткала, руки-ноги ее покоя не знали, а бездельник сын валялся где попало целыми днями, пыль пересыпал из ладони в ладонь.
Шибко убивалась бедная женщина, кажется, лучше б помереть с горя-печали. Да только что же станется с ее дитятком единственным, ежели она богу душу отдаст? Он же совсем беспомощный, ленивец эдакий, ему и лакомство любимое прямо в рот подай: сам-то и руку не протянет!
Но в какой-то день Янош вдруг голову приподнял и спрашивает мать:
– А скажи-ка, родимая, отчего это стучат у соседей, да громко так?
– Соседи, сынок, дом новый ставят, оттого и стучат-приколачивают.
Янош так и подскочил, говорит матери:
– Пойду-ка я к ним, родимая, может, чем-нибудь да помогу.
Бедная женщина даже онемела, глаза вытаращила: вот чудеса!
Пришел Янош к соседям, а они как раз вкруг бревна девятисаженного сгрудились, поднять хотят, а сил не хватает. Янош даже руками всплеснул, такое увидя.
– Да неужто, – кричит от ворот, – слабаки вы такие, что бревна не подымете?
– Ступай отсюда, бездельник, пыль дорожную перемалывать, – рассердился сосед, – не то затолкаю тебя самого под бревно!
– Да ты не ершись, сосед! Хороши ж вы, работнички! Хворостину, вишь, осилить не можете, зачем только кормят вас. А ну-ка подайтесь назад все!
Подхватил он бревно и поставил матицей, словно палку подбросил.
С той поры Яноша всюду встречали с почетом. Кто строиться вздумает, первым делом Яноша зовет на подмогу; самые неподъемные тяжести он поднимает, зато и ему не жалеют денег – он уж и не придумает, что с ними делать, где складывать.
Ох как его матушка радовалась, нахвалиться не могла сыном! «Теперь мне бояться нечего, – думает, – прокормит меня сынок до самой моей смерти». Даже к старосте сельскому завернула, не удержалась и ему похвастала.
А староста был жадный да завистливый, прежде никогда не держал работников, все из скупости, а тут подумал: «Найму-ка я этого Яноша задешево». Староста как раз недавно земли прикупил, угодья большие, да кустарником все поросли. Вот и пусть силач Янош кустарник выкорчует.
Говорит он матери Яноша: так, мол, и так. Обрадовалась женщина, бегом домой припустилась, взяла с собой сына и назад, к старосте. Тотчас и сговорились. Староста за работу Яношеву обязался его с матерью кормить, поить, одевать, а как кончится срок, получит Янош ремешки для бочкоров. А ремешки из спины того из них вырежут – старосты или Яноша, – кто на другого рассердится.
В первый день нового года пришел Янош к старосте за работу приниматься. Утром поставили перед ним маленькую миску с мамалыгой, а потом приказали выгнать овец на дальнюю вырубку и до вечера домой глаз не казать, но подлесок весь выкорчевать. Котомку же дали пустую, так и хлопала на ветру.
Янош не опечалился, овец выгнал, куда приказано, и оставил пастись, а сам насобирал сухих веток и такой огонь разжег, что до неба языки доставали. Когда прогорели дровишки, поймал он двух барашков, освежевал их, насадил на крепкую ветку дубовую да и зажарил на алом жару. До отвала наелся, корочка так и хрустела, сам король бы ему позавидовал!
Вечером пригнал он овечек на старостин двор. Староста спрашивает:
– Ну и сколько ж ты одолел, Янош?
– Все одолел, ваша честь, – отвечает Янош.
– Неужто все одолел?! Ты про что говоришь-то?
– А про тех барашков пестреньких. Съел я их, другого харча ведь не было. Что, аль осерчали вы, господин староста?
– Что ты, что ты, ни капельки! Правильно сделал. Делай и в другой раз так же, если моя жена опять с пустой котомкой тебя отправит.
Досталось старостихе от мужа: зачем поскаредничала, Яноша с пустой котомкой отпустила, словно не он сам приказал ей так поступить! Но больше-то ведь не на ком было злость сорвать.
Так миновала зима. По весне отправился староста поглядеть, много ли Янош успел кустарника выкорчевать.
Пришел и за голову схватился: ни одного кустика не выкорчевано, а Янош спит себе возле овечек в тени, десятый сон видит. Растолкал его староста, ругает, а Янош и ухом не ведет. Послушал, послушал и спрашивает:
– Что, господин староста, аль сердиться изволите?
– Что ты, что ты, негодяй, бездельник, я совсем не сержусь! А вот ты подставляй-ка спину, потому как уговор нарушил.
– Тогда сперва вы, господин староста, подставляйте спину, вы же первый уговор нарушили. Матушке моей корочки сухой не дали, да и мне – не на всякий день.
«Этого, видать, вокруг пальца не обведешь, – думает староста, – ну уж ладно, придется пострадать, пусть он кустарник все ж выкорчует».
На другой день Янош надивиться не мог, когда в котомку свою заглянул: лежал там большой каравай хлеба белого и сала добрый кусок.
«Ну, коли так, – подумал Янош, – надобно за корчеванье приняться». Взял было топор, вырубать стал, да видит – медленно дело идет. «Да с чего мне мучиться, ну-ка, топор, в сторону!» Схватился обеими руками за куст, сразу с корнями выдернул, потом второй, третий, и пошел, пошел, точь-в-точь как бабы коноплю дерут.
За два дня всё и повыдергивал – деревья, подлесок, кустарник, плющ, – потом все в одну кучу свалил – куча получилась с церковь высотой – и поджег.
Вот это был костер так костер! Уж вечер настал, а светло как днем. Увидели в деревне огонь, испугались, что конец света пришел, вся земля горит. Забили набат, схватили кто топор, кто ведро и бегом на огонь, словно разума лишились. Только на место прибежали, увидели люди, что старостина вырубка горит, а не мать-земля.
Янош по коленям бил – так смеялся, а люди посердились да и по домам разошлись.
Утром староста спрашивает Яноша:
– Много ли корчевать осталось?
– Все выкорчевал, господин староста.
– А куда же сложил то, что выкорчевал?
– Да я сжег всё, до последней тростиночки. Неужто не видали вчера, как огонь полыхал?
– Видел, как не видеть, разбойник ты! Только мне сказали, что соседняя деревня горит.
– Так, может, осерчали вы, господин староста?
– Что ты, что ты, и не думал!
А сам, того гляди, лопнет от злости.
Не знали староста со старостихой, что и делать, как от Яноша избавиться. Днем и ночью думали, ломали головы, наконец староста кое-что придумал. Позвал он Яноша и говорит ему:
– Вот тебе задание: ступай в лес, разыщи там дядю Михая, отнеси ему еду да одёжу. Он уж год в лесу свиней пасет, обтрепался, должно быть, бедняга. Вместе с ним свиней и пригоните.
Пошел Янош в лес густой, стал свиней искать, хотя их никогда там и не было. Это ж каждому умному человеку понятно: староста погубить Яноша вздумал, затем и в лес послал, может, там зверь какой его задерет.
Вот идет Янош по лесу, в самую чащобу забрался, все заросли прочесал, все места обошел, где велел староста дядю Михая искать, да только нигде его не нашел, за всю дорогу ни одной живой души не встретил.
Целую неделю ищет Янош дядю Михая и подумывает уже, не пора ли домой возвращаться: где ему, в самом деле, этого дядю Михая искать? Как вдруг слышит: топот, хрюканье, веток хруст – не иначе как стадо свиней идет.
Так и вышло! Выбегает на него из густых зарослей большое стадо свиней, а за ними кто-то большой, черный топает – пастух, должно быть.
Обрадовался Янош, что свиней старостиных все же нашел, да как заорет:
– Эй, дядя Михай, э-ге-гей! Стойте, не спешите так, я вам хлеба принес и одёжу на смену!
Но дядя Михай на него и не глянул, за свиньями спешит и ворчит на ходу. Это ж медведь был, не человек, я сам его видел, вот как вас сейчас! А спешил он за дикими свиньями, приноравливался одну какую-нибудь на ужин себе ухватить.
Видит Янош – дядя Михай и не глядит на него. Рассердился парень, догнал пастуха и хвать его по плечу!
– Бог в помощь, дядя Михай, это что ж вы и словом бедного человека не приветите? Вам господин староста одёжу прислал, надевайте, да побыстрей, вы вон совсем обносились, не поймешь, в чем и ходите.
Испугался медведь, с перепугу на дерево влез, рычит оттуда на Яноша.
– Ну, хватит, дяденька, шутки шутить, живо слезайте с дерева да рубаху наденьте.
Медведь слезать и не думает, рычит:
– Рррав… ррав…
– Какое там рано! – кричит ему Янош. – Говорю, живо слезайте, дядя Михай!
Да только медведю говори не говори… Рассердился Янош по-настоящему, ухватился за дерево да с корнями выдернул и наземь швырнул вместе с мишкою, по лесу гул прошел.
Застонал медведь, завопил от боли так, что лес загудел, а Янош и говорит:
– Сказано было, дядя Михай, хватит шутки шутить! А теперь, вишь, ударились больно. Ну, берите рубаху, одевайтесь!
Но дядя Михай и впрямь уже не шутил: встал на задние лапы, развернулся и такую оплеуху Яношу закатил, что у того искры из глаз посыпались.
Тут и Яношево терпение кончилось.
– А ну, надевайте рубаху, не то попляшете у меня, дядя Михай! – заорал он во всю глотку.
Да только с медведем что ж? – ори не ори, по-хорошему говори или злобствуй, он знай рычит да лапами передними машет, оплеухами сыплет и слева и справа.
– Так вы, значит, вот как! Ну, погодите же, дядя Михай!
Схватил тут Янош дядю Михая и сам напялил на беднягу и штаны, и рубаху, да еще тычков не жалел, ежели тот не быстро руки-ноги сгибал. Покончив с этим, схватил Янош дядю Михая за руку и потащил за собой: надо ж было и стадо свиней собрать да к старосте гнать.
Только дело нелегкое оказалось: не желали свиньи кнута слушаться. Их гонишь в одну сторону, а они в другую бегут да еще оборачиваются, клыки показывают. Срубил тогда Янош дерево сажени в три, стал им управляться, по бокам свиней охаживать – сноровистей дело пошло. Только кабан один, громадный да страшный, орясины не убоялся, повернулся и пошел на Яноша – вот сейчас пропорет клыками.
– Остановись, кабан, коли жизнь мила!
Не послушался зверь. Хватил его Янош по клыкастой башке кулаком – из вепря и дух вон. Толкнул Янош тушу к дяде Михаю: займись, мол, пока я стадо соберу.
Дядя Михай справился скоро – целиком вепря сожрал, ни куска не оставил.
Вернулся Янош, с досады рукой махнул:
– Уж половина-то вроде бы мне причиталась… Ну да ладно, помогите хоть стадо домой гнать.
А медведь рычит только:
– Ррав… ррав…
– Что значит рано, чёрт побери! Не рано, а в самую пору! – заорал Янош и такого ему дал тумака, что бегом побежал дядя Михай да вприпрыжку.
И на другой день к вечеру прибыли они к старостину двору. Ох, братцы мои, до чего же староста испугался! Стоит трясется: еще бы, огромное стадо диких свиней во дворе! А Янош, ни словечка не молвив, загнал все стадо в сарай, одного кабана дяде Михаю на ужин зажарил, а после того подошел к старосте да и говорит:
– Ну, господин староста, ваших свиней я пригнал, но одно скажу: такого пастуха, как дядя Михай, нипочем не держал бы. Уж как я его уламывал, и просил, и грозил, но он и одеться сам не хотел, пришлось обрядить его силою. А ведь совсем обносился: исподнего и того на нем не было. И каравая белого не пожелал откушать, и от мяса жареного нос воротил: мясо он, вишь, сырым только ест – целого кабана слопал, не поперхнулся. Я говорю: домой, мол, пора, а он все «рано» да «рано», еле привел. Нет, был бы я старостой – сей минут от ворот поворот ему дал бы.

– Твоя правда, сынок, гони ты его, да подальше, чтоб в селе и духу его не было, – заторопился староста, лишь бы от медведя избавиться.
Пошел Янош во двор, взял медведя за ухо, вывел за околицу.
– А ну, ступай, – говорит, – дядя Михай, куда глаза глядят.
Подхватился мишка и прямо к лесу дунул, только его и видели.
«Ну, – думает староста, – от медведя я освободился, но вот с дикими свиньями как управиться? Эх, сколько их, видимо-невидимо!»
Позвал староста Яноша и говорит:
– Вижу я, сынок, свиньи-то у нас в теле, забей ты их всех на рассвете.
Встал Янош ранехонько, еще и заря не занялась, всех свиней забил, начал одну за другой на огне палить. К утру что было у старосты соломы – ни соломинки не осталось.
Староста говорит:
– Что ж, сынок, ступай к губернатору, попроси у него чуток соломы взаймы.
Янош пошел к губернатору, тот ему говорит:
– Ступай, сынок, в лес мой, увидишь там бо-ольшой стог соломы, бери оттуда столько, сколько унести сможешь.
Пошел Янош куда приказали, приподнял стог с одной стороны, подлез под него и поволок целиком. У ворот, однако, остановился: не пролазит стог. Отодвинул в сторону половину ворот и дальше стог волочит. Когда мимо дверей губернаторских шел, крикнул:
– Благодарствуем, господин губернатор!
– Эй! – закричал губернатор. – Стой, остановись, негодяй, ты же всю мою солому забрал!
Но Янош и не оглянулся, приволок стог к старосте да всю солому и сжег.
«Что ж, – думает староста, – от медведя освободился, от свиней диких тоже, теперь от Яноша бы избавиться».
Думал-думал и придумал, как парня погубить.
Был у него во дворе глубокий колодец, уже высохший, на нем лежал жернов огромный, какой и дюжине мужиков не сдвинуть.
Староста Яношу говорит:
– Сдвинь жернов в сторону и сложи в колодец свинину да сало, чтоб не попортились.


