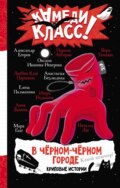Наринэ Абгарян
Дальше жить
Багардж

Заргинанц Атанес просыпается в самую рань. Первым делом, неловко перегнувшись через край кровати, выключает будильник, чтобы тот своим бесцеремонным и назойливым звоном не разбудил спящего сына. Потом распахивает окно, забирается обратно под одеяло и лежит с закрытыми глазами, слушая голос просыпающегося Берда: далекий, едва различимый шепот реки, щебет птиц, возмущенный клекот вечно недовольных индюков, гогот задиристых гусей. Сипя древним мотором, проезжает мусорная машина. Атанес уверен, что ей столько лет, сколько миру. Сменяют друг друга времена года, поколения, века, и единственное, что остается незыблемым, – это отчаянно чадящая и захлебывающаяся собственным дымом старая развалина, с упорством муравья увозящая за пределы Берда нескончаемый и бессмысленный мусор.
На заборе дерет глотку соседский петух. Атанес с улыбкой вспоминает, как, цокая длинными когтями по дощатому полу, тот шлялся по веранде, кося желтым глазом на выстланные горячей жареной пшеницей подносы. Клевать не клевал – не дурак обжигаться, но вид имел крайне недовольный и даже угрожающий. Левон, увидев его, забулькал, затрясся в неслышном смехе: папа, па-а-па, смотри, Пето!
Все петухи у него – Пето.
Все собаки – Сево.
Все лошади – Чало.
Все люди – Человеки. Так и говорит: Человек пришел, Человек ушел. И только об одной женщине скажет – Ласковый Человек пришел. А потом добавляет – красивый.
Представление о красоте у всех разное, да и на протяжении жизни меняется многажды. Но у Левона оно неизменное и бесспорное – красив тот, кто приходит со сладким угощением. Потому Погосанц Аничка – красивый Человек. Ведь она часто приносит ему багардж[4], тесто которого, вопреки традиционной рецептуре, замешивает на густых сливках и прослаивает молотым жареным миндалем.
– Папа, па-а-па, смотри, Ласковый Человек идет. Красивый! – радуется Левон, заприметив отворяющую калитку Аничку.
– Левон-джан? День перевалил за полдень, а ты еще не поднимался? – притворно бухтит Аничка, взбираясь по ступеням веранды. Это ей дается с трудом, она охает и упирается ладонью то в одно, то в другое колено. Раньше Атанес пытался ей помочь, но потом перестал – она сердито отмахивалась, твердя, что, пока ноги ходят, сама будет справляться.
Левон полулежит на топчане, низ туловища плотно обмотан пеленками, свободны только тонкие длинные руки, которыми он тянется к Аничке. Ласковый Человек пришел. Красивый.
Аничка садится рядом, сначала разворачивает сверток, открывая взору притихшего мира золотистые кусочки сладкого багарджа. И только потом переводит дыхание.
Пока Левон ест, они с Атанесом ведут неспешную беседу. О том, что крыша прохудилась. Что забор лежит на боку. Что дни становятся все короче, а ночи – длиннее, и это не потому, что дело движется к зиме, а потому, что возраст. Что пора сходить на кладбище, ведь скоро Зеленое Воскресенье, на другой день родительская. А к родительской нужно готовиться загодя, с поклоном к неприбранной могиле ведь не придешь.
Потом Атанес разогревает воду, и они с Аничкой моют Левона. Сытый и довольный, тот старательно плещется и радуется – хорошо, да, папа?
– Да, Левон-джан, хорошо.
Пролежни на затылке, лопатках и пояснице обрабатывают специальной мазью, Аничка ее сама делает – вскипятит растительное масло, добавит пчелиного воска, хорошенько размешает, отставит стынуть.
Когда Левон засыпает, они проводят на веранде еще какое-то время. Пока Атанес заваривает чай, Аничка штопает прохудившееся белье. Пьют каждый по-своему: она – вприкуску, он – с вареньем.
– Нужно было, когда звал, замуж за меня идти, – прерывает молчание Атанес. – Вместе нам было бы легче.
Аничка поднимает на него глаза.
– Ты в это веришь?
Атанес не отвечает.
– Не веришь, а говоришь, – заключает Аничка.
Уходит она ближе к вечеру, когда небо подергивается боязливым светом первых звезд.
Атанес потом долго лежит в постели, вглядываясь в безответные глаза ночи. Рядом, по-детски подложив под щеку ладонь, спит Левон. Война забрала у Атанеса всех, и сына бы забрала, да не смогла – его выбросило из разбомбленного автобуса за секунду до того, как тот рухнул в пропасть. Был здоровый крепкий парень, а теперь калека и дитя дитем. Спроси, сколько ему лет, и не ответит. А ведь прошлой зимой справили тридцать пять!
У Анички было страшнее, хотя кто объяснит, каким мерилом можно измерять боль. Семья ее сгинула в погроме, все, что ей удалось отыскать, – обугленные останки младшего сына. Собрала в узел, перенесла через границу, похоронила. Когда узнала о Левоне, испекла багардж – любимое лакомство своих детей, пришла проведать. Так и ходит много лет. Атанес сначала отнекивался – не хотел ни от кого зависеть, но потом привык и даже полюбил. Однажды, набравшись смелости, предложил пожениться. Она ответила, что на двоих у них будет столько горя, что не справиться. А так, каждый со своим, как-то проживут.
Атанес забывается недолгим сном далеко за полночь, а просыпается в самую рань. Первым делом, неловко перегнувшись через край кровати, выключает будильник, чтобы тот своим пронзительным звоном не разбудил спящего сына. Потом распахивает окно, забирается обратно под одеяло и слушает голос просыпающегося Берда. Утро проходит в рутинной работе по дому: уборка, прополка и поливка огорода, стирка-готовка. После обеда он выносит Левона на веранду, укладывает на топчан, садится рядом. И они принимаются ждать, когда придет Аничка и принесет золотистые кусочки благословенного багарджа. Левон каждый раз ест так, словно пробует на вкус солнце.
Одиночество

Мураданц Андро знает об утреннем Берде то, чего не знают даже птицы, густым своим пением предвещающие наступление нового дня. Пока их праздный щебет, занявшись с одного края долины, вьется в небе, чтобы потом, набравшись сил, взмыть ввысь, к верхушке холма, бьющего челом восходящему солнцу, ржавый, рассыпающийся на части, дряхлый, как мир, грузовик Андро, чадя тяжелыми бензиновыми парами и машинным маслом, фырча и проваливаясь то одним, то другим колесом в смытую вечными дождями и пересушенную палящим солнцем заскорузлую колею, разъезжает от двора ко двору, собирая, словно шуршащую луковую шелуху, бренный человеческий мусор.
– Ты бы хоть глушитель починил! А то этот драндулет своим грохотом нас раньше будильников поднимает! – возмущаются бердцы.
Не выключая мотора, Андро с лязгом поднимает ручник, вылезает из кабины, громко хлопнув дверцей, по очереди опрокидывает в кузов содержимое мусорных баков, не забыв тщательно постучать кулаком по дну, давая возможность клочьям бумаги, картофельным очисткам и яичной скорлупе отлипнуть от мокрых стенок, – а потом выстраивает баки аккуратным рядком на кромке дороги.
– Этот драндулет придумали раньше глушителя, так почему бы ему не грохотать?! – наконец снисходит до ответа он. И, чуть помедлив, добродушно добавляет: – Чего вы гундите, вон, утро на дворе, просыпаться пора.
– Какое просыпаться, до будильника еще час!
– Кто рано проснулся – тому Бог улыбнулся!
К тому времени, когда тысячеголосый птичий гомон, сплотившись в могучую хвалебную песнь, достигает Восточного холма, пробуждая его от старческого сна, Мураданц Андро, покончив с ежеутренним сбором мусора, выруливает к водохранилищу, за которым, если проехать еще с полчаса, будет большая свалка. Эту дорогу он знает наизусть, если понадобится, проделает с закрытыми глазами. Справа, подпирая небо острыми куполами, тянется кипарисовая роща. Ниже, бликуя на солнце серебристой чешуей, извивается среди камышовых зарослей река. Лягушки молчат – до вечера набрали в рот воды и стерегут под камнями тишину, зато поет иволга – так, как умеет только она – трогательно-нежно, душеспасительно. На том берегу зеленеют табачные поля – Андро морщится, вспоминая царапающий запах едкого сока, намертво въевшийся в руки матери и теток. Пока они с двоюродными братьями, закинув за спины самодельные луки и стрелы, бегали окрест, играя в индейцев («А-андро, ай Андро, играй, где хочешь, но чтобы мои глаза тебя видели!» – надрывалась потерявшая его из виду встревоженная мать), женщины, устроившись на дощатых лавках и обмотав лица платками так, чтобы оставалась узкая щель для глаз, нанизывали на шнуры табачные листья, орудуя длинными стальными иглами. Если выключить посторонние звуки, можно и сейчас услышать, как в бесконечно однообразном движении снуют их почерневшие от табачного сока пальцы: проткнуть черешок у основания иглой, аккуратно, чтобы не порвать лист, спустить его на шнур, строго следя за густотой нанизывания – мелкий лист можно чаще, крупный – реже, иначе он, так и не успев высохнуть, запреет и сгниет. Затянуть под навесами низки с таким расчетом, чтобы они не сильно провисали, давая солнцу и ветру беспрепятственно проникать между листьев и сушить их бережно, щадя. Работа была кропотливой и тяжелой, и руки матери к вечеру болели так, что она не могла сдержать горестных вздохов. Укладываясь спать, натирала их яблочным уксусом и утиным жиром, но толку было мало.
– Пальцы как будто огнем жгет! – жаловалась она.
– Жжет! – закатывая глаза, поправлял ее Андро.
– Жжет, – охотно соглашалась мать, но на следующий день допускала ту же ошибку.
В гробу она казалась совсем маленькой, даже ногами до нижнего края не доставала. Выглядела не мертвой, а задремавшей – шепотом окликнешь – проснется. Андро не мог ею налюбоваться: она была красива той строгой первозданной красотой, которой отличаются жительницы гор – высокая, сухощавая, с неправильными броскими чертами лица. Загрубевшие от тяжелого труда ее руки, не знавшие всю жизнь покоя, лежали теперь бездвижным грузом на ее груди. Замотанные в темную шерстяную ткань, они смахивали на два каменных обломка, навсегда прибивших ее к земле. Он старательно обходил их взглядом, чтоб не разрыдаться. «А-андро, ай Андро, играй, где хочешь, но чтобы мои глаза тебя видели!» – надрывалась она, близоруко щурясь и высматривая в шумной ватаге детей своего. «Мам, ну чего ты так кричишь!» – каждый раз возмущался он. «Боюсь, что меня не услышишь», – виновато улыбалась она.
Андро не сомневался – она его звала. Заваленная тяжеленными, прокопченными дымом балками, старой ломкой черепицей, лопнувшей печной трубой, связками сушеных яблок и вяленых слив, початками кукурузы, рамками меда – соты треснули, и сладко-терпкий горный мед – янтарно-золотой, липкий, тек по ее седым волосам, по спине и ногам, засыпанным всяким ненужным скарбом, который она хранила и никак не решалась избавиться, потому что каждая вещь – память, и даже старое, насквозь проржавевшее колесо телеги, казалось бы, очевидный хлам, выкинуть и забыть, но она его берегла, как берегла изъеденный древесным жучком ларь, облицованный по углам латунными пластинами, дед-кузнец собственноручно их чеканил, выводя стальным стержнем и узконосой киянкой незамысловатый, но достаточный узор, и треснувшие по боку рыжие глиняные горшки – привет от другого деда-гончара, и ветхие лоскуты истертых до дыр ковров, и торчащие обломанными прутьями, давно пришедшие в негодность ивовые корзины – к ним прикасались пальцы бабушки; вся эта ненужная и бессмысленная, но значимая для матери рухлядь в один миг обвалилась, сметая на своем пути все, что не исчезло во взрыве, и заковала ее тело в душный неподъемный саркофаг. Она успела свернуться калачиком, и ни один обломок не задел ее и даже не коснулся, она лежала, словно младенец в утробе, притянув к животу колени и сложив на груди руки, беспомощная и бездвижная, – и звала сына. И он ее не услышал.
Это был старый каменный дом, с обветренной черепицей и покосившимися ставнями, со скрипучими разошедшимися полами и сгорбившимися стенами, прадеду в свое время определили надел совсем на отшибе, добираться на телеге полтора дня, он на него рукой махнул, но земля оказалась такой плодоносной, что после долгих раздумий он все-таки решил построить там небольшое, но крепкое жилище. Мать ездила в тот дом по выходным все погожее время, а к концу октября, когда табак уже был убран и обработан, оставалась на неделю-другую, подготавливала к зимовке ульи, собирала последнюю, уже подмороженную малину, варила из пыльно-мерклых ягод терна терпкое варенье, перекапывала огород. Андро приезжал за ней в оговоренный день, и они перевозили домой заготовленные припасы. Иногда он предлагал остаться, но она отказывалась – ей важно было побыть в тишине и уединении, она уставала от людей.
Последний ее октябрь случился накануне очередного витка войны, и всю неделю, пока Берд нещадно бомбили, Андро радовался тому, как вовремя вывез мать в дом на отшибе. За нее он не беспокоился – никто не стал бы тратить снаряды на отдаленную местность, ведь бомбят всегда там, где можно собрать большой урожай жертв.
Застав вместо дома зияющую воронку, засыпанную грудой обломков, он сначала не поверил своим глазам и даже несколько раз огляделся, думая, что перепутал дорогу и приехал не туда, но потом, очнувшись, ринулся разбирать руины голыми руками. Добрался до матери к рассвету, плакал, высвобождая ее из-под каменной трухи, пучков сушеной мяты, обрывков старых газет, меда и искрошенной черепицы, – высвобождал так бережно, словно жемчужину из раковины извлекал. Всю дорогу, пока вез ее домой, говорил с ней, не умолкая. Спрашивал, как теперь ему жить с таким оглушительным бременем сиротства. Как оплакивать ее, чтобы чужие не видели его слез. Как простить себе, что ни одна ниточка души не шевельнулась, когда она его звала. Как простить себе, что не оказался рядом. Мать лежала на заднем сиденье машины, свернувшись калачиком, он пытался выпрямить ей хотя бы руки, но окоченевшее тело не давалось, она покоилась, притянув к животу ноги, и будто спала – красивая, молодая, не тронутая тленом.
Андро остановился у водохранилища, сидел в машине, плакал и причитал. Вышел, снедаемый нестерпимой душевной болью, оставив нараспашку дверь – почему-то побоялся хлопнуть ею, чтоб не потревожить мать. Подошел к самой кромке воды, постоял, вбирая в себя безмолвие небес, непоколебимое молчание которых убивало всякую веру в спасение. Тишина стояла оглушительная, облака касались самой земли, воздух был нем и туг, словно набитая пухом жаркая перина – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Андро не сомневался – отныне для него нет и не будет ничего страшнее этого каменного и отрешенного молчания. «Господи, да как же может быть, чтобы ты был так безразличен и глух к людской боли!» – не в силах справиться с душевной мукой, вдруг закричал он. Крик этот – протяжный, неистовый, рвущий глотку до крови – исторгся из него невыносимым отчаянием и долго реял над черной водой, волнуя ее зыбь. Он не услышал голос матери, он его ощутил. Возникнув из ниоткуда, этот голос не прозвучал, а проник – весь, без остатка, в самые краинки его истерзанного болью сердца. «Я тебя слышу», – прошелестел он и угас, оставив в сердце чувство безвозвратной утраты и глухой тоски.
Мураданц Андро знает об утреннем Берде то, чего не знают даже птицы, звонким своим пением предвещающие наступление нового дня. Пока их праздный щебет, занявшись с одного края долины, взмывает к верхушке дряхлого Восточного холма, пробуждая его от каменного сна, ржавый, рассыпающийся на части грузовик Андро, чадя тяжелыми бензиновыми парами и машинным маслом, фырча и проваливаясь то одним, то другим колесом в заскорузлую деревенскую колею, разъезжает от двора ко двору, распугивая заспанную домашнюю живность и поднимая людей в несусветную рань. Бердцы возмущаются, но терпят. Они знают – тишина для Андро равносильна муке. Ведь совесть говорит с нами голосами тех, кто ушел. Выключи посторонний звук – и ты ее услышишь.
Жить

Акунанц Карапет погиб на пороге своего дома. Когда прибежали соседи, он сидел, привалившись плечом к дверному косяку, и, уронив на колени руки, смотрел в тот угол двора, где разорвался снаряд. Пес беззвучно скулил, боясь высунуться из конуры. Куры, заполошно кудахча, метались вдоль частокола, но при виде людей притихли. Лишь одна, хрипло кукарекнув, продолжила свой бестолковый бег.
– Поймай и сверни ей шею, – велела старшему внуку Маро.
Тот безропотно подчинился.[5] Выкинул убитую курицу в выгребную яму, сполоснул руки в дождевой бочке – вода перестояла и пахла набрякшим мхом и сыростью. Брезгливо принюхавшись к пальцам, он вытер их о штаны и заспешил в дом. К тому времени младшие братья с бабушкой успели положить тело Карапета на тахту.
Второй снаряд разорвался так близко, что подумалось – угодил в дом. Стены скрипнули и зашатались, на кухне с грохотом опрокинулся буфет, полиэтилен, которым были обтянуты оконные рамы, не выдержав воздушного удара, лопнул и разлетелся в клочья.
– В погреб! – крикнула Маро и вцепилась в плечи покойного. Мальчики решительно отодвинули ее – сами справимся. Перенести Карапета не составило большого труда – к старости он совсем отощал, шея торчала из ворота рубахи, словно хвостик перезрелой груши, – старший внук Маро поморщился, некстати вспомнив хрустнувшую в пальцах шею курицы. Идти было недалеко: вниз по лестнице и направо с десяток шагов, но нужно было спешить, чтоб не угодить под обстрел. Маро ковыляла за внуками, бормоча под нос проклятия: «Чтоб вы превратились в камень, бессовестное племя, чтоб мертвые ваши восстали из могил, но только затем, чтобы забрать вас на тот свет! Где это видано – мирные дома бомбить?»
Третий снаряд разорвался ровно в ту секунду, когда старший внук захлопнул дверь за псом – тот ворвался в погреб, жалобно скуля, споткнулся о высокий порог, пролетел вперед, въехал ушастой башкой в мучной ларь, взвизгнул. Обезумевшие пеструшки бегали по двору, захлебываясь в хриплом кудахтанье. Следующий взрыв грянул совсем рядом, словно под боком, мигом загасив страшный куриный крик. Маро рухнула ничком на землю, внуки попадали рядом, старший в невообразимо длинном прыжке настиг младшего, прикрыл его собой, тот сразу же выполз из-под него – о себе думай! Потом было поднялся, чтобы посмотреть, что там во дворе, но братья не дали – куууда? Младший пихнул их локтем, получил в ответ звонкую затрещину. Маро шикнула, кивнув на покойного – нашли время! Внуки, мгновенно устыдившись, притихли.
Акунанц Карапет лежал на земляном полу, правая рука была откинута вбок, неудобно согнутая в локте левая осталась под спиной. Маро прикрыла ему веки, подивившись тому, какие у него огромные зрачки. Сложила на груди руки, крепко обвязала носовым платком запястья – неизвестно, когда удастся похоронить, потому лучше заранее сделать все как положено. Говорят, Мураданц Сатик, которую хватились через неделю, пришлось ломать окоченевшие руки, иначе они не складывались на груди. Не хотелось бы, чтобы и с Карапетом так. Рана на виске была совсем крохотной, крови вытекло мало, с три чайных ложки. «Придет же в голову такое – измерять кровь ложками», – мысленно отругала себя Маро, сдернула пояс, обвязала ступни покойного. Накинула жакет ему на ноги, прикрывая расползшееся пятно на брюках – не нужно, чтобы внуки видели, как у него отходит моча. Сложив вчетверо косынку, подвязала челюсть. «Смерть ужасна не фактом своего существования, а тем, как, глумясь и наслаждаясь, она уродует человеческое тело – ведет себя, словно тот недостойный противник, который, добившись своего, потешается над трупом поверженного врага», – думала с горечью Маро.
Пес плакал, уткнувшись носом в ладонь старшего внука. Тот молча гладил его по голове. Когда раздался новый взрыв, сгреб в объятия, прижал к себе. Пес громко вздохнул, запричитал совсем по-человечьи, но сразу же притих. Снаряды ухали по Берду, тут и там содрогались стенами старые каменные дома, вылетали последние стекла в окнах, сходила с ума домашняя живность. Людской страх – мешкотный, неподъемный – одышливо полз по дворам, заполняя собой щели между рядами поленниц, кривенькие дымоходы, чердаки и подполы. Было безвыходно и тоскливо – так, будто враз выключили все, что дарит надежду.
Маро сидела, привалившись спиной к стене, и смотрела в тот угол погреба, где лежал Карапет. Всю жизнь враждовали: то он, чиня забор, якобы случайно его опрокидывал на кусты смородины, то она «забывала» отключить воду и превращала его огород в болото. Сколько раз дело чуть до драки не доходило – Карапет был человеком вспыльчивым, в гневе неуправляемым, злым. Замахнется – думаешь, сейчас ударит. Но он в последнюю секунду сожмет руку в кулак, уберет за спину.
– Что же не ударишь? – усмехалась Маро.
Карапет уходил, больно задев ее плечом.
Спроси сейчас – с чего началась вражда, она и не вспомнит. Сначала жили каждый своей семьей, вроде были счастливы. У нее сын, у него сын. Однажды проснулись одинокими – муж Маро, забрав жену и ребенка Карапета, уехал в другую деревню. Берд побурлил и забыл, а Маро с Карапетом словно окаменели. Так и жили, каждый со своим несчастьем. Первое время заглядывали друг к другу – излить душу, потом перестали. Маро быстро простила мужа – отпускала к нему сына, потом внуков. Карапет никогда больше с женой не общался. И сына редко видел – не забыл ему, что молча уехал, хотя какой спрос с четырехлетнего ребенка. Спустя время он и на Маро ополчился. Она сначала не обращала внимания, потом стала огрызаться. Так и поссорились.
Сыновьям было по тридцать, когда началась война. Оба ушли на фронт. Оба погибли, пропалив в сердцах родителей незаживающие раны. В день, когда это случилось, Карапет пришел к Маро, домой заходить не решился, просидел на веранде до утра. Когда она вышла – он спал, положив голову на согнутый локоть. Рукав рубахи насквозь промок от слез. Она села рядом, погладила его по плечу. Он зарыдал сквозь сон. Помирился с женой на похоронах. Ну как помирился, поплакали, обнявшись – и разошлись.
– Тати[6], ай тати! – вывел Маро из раздумий внук.
– А? – Она очнулась, протерла тыльной стороной ладони глаза. Взрывы стали дальше и тише, скоро и вовсе умолкнут – можно будет выйти из укрытия, посчитать живых, похоронить мертвых.
– Тати! – Младший смотрел на Маро глазами своего отца, потому все над ним и тряслись – и братья, и бабка, – уж очень он напоминал его, такой же темноглазый и рыже-веснушчатый. – Почему мы не оставили деда Карапета наверху? Все равно ведь мертвый.
– Мертвый или живой – человек остается человеком, – ответила Маро.
Громко кукарекнул петух, его крик подхватил другой, потом третий. Птица всегда безошибочно угадывала наступление затишья. Маро поднялась, отперла дверь погреба. Можно было выходить – и жить дальше.