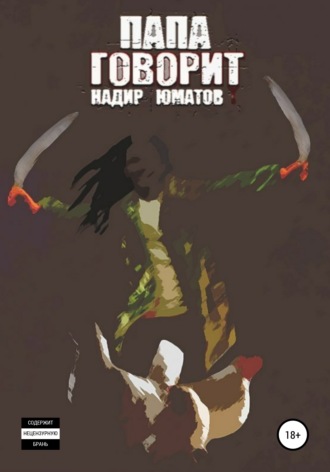
Надир Юматов
Папа говорит
– У-у-уды.
– Ты же сам позвал меня, Ерик…
– У-у-уды.
– ДА ЩАС УДУ! – как гаркнула, что забрызгала слюнями всю его бесстыжую морду. Вот, что называется – довел, засранец гадкий. Подумать только: Ерик, тот самый, никому не-нужный инвалид, отказывается играть со мной. Уверена, что я единственная на всю вселенную, кто мало того провела его к дому так еще и рискнула побыть у него в гостях.
Естественно, я не могла уйти, не проучив засранца. Встав на крыльце ногами врозь, я до упора оттянула дверь и когда хлопнула ею – флигель захрустел в разных местах.
– Пошел в жопу инвалюга мерзкий!
Но этого мне показалось мало.
С корнем вырвала первый попавшийся куст циклохены, с меня ростом, и копьем запулила в окно – он воткнулся в доски и повис верх тормашками.
– Мудак вонючий…
На пути к дому я воображала злорадствующие картины, они все начинались по-разному, но концовка была, строго одна: Ерик, на карачках приползал к моему дому, долбался в калитку, умоляя с ним поиграть, и беспрестанно ревел, тогда, как я в это время глядела в окно и хихикала, а потом, играючи кричала ему в форточку: «Иди в жопу Ерик» и снова хихикала. Правда, около булыжника, поток моих мечтаний, ненадолго прервался: пришлось отвлечься, чтобы как следует его заплевать – оставить, так сказать, Ерику памятку. Покончив с этим – мечты возобновились.
Блудный отец вернулся домой – я поняла это по разгуливающим во дворе курам. Мать бы не отважилась войти в сарай, чтобы их выпустить. У нее фобия на паучков, а наш сарай – это огромнейшей кокон и только курам с папой там комфортно; особенно когда второй, как он сам говорит: «хряпнет с друзьями лишнего», и сердитая мать не желает впускать его в дом – тогда сарай ему служит ночлежкой.
«Да хрен с ним! Он всего лишь инвалид» – отмахнулась я мысленно от злости, перед тем как войти. Сапоги, оставила на крыльце, от греха подальше – вряд ли маме понравится их облицовка. Пусть постоят пока здесь, а потом я их вымою.
На кухне, в ходунках, возле стола, елозила моя младшая; там негде разгуляться и как мне показалось, она хотела колесиками выровнять на паласе горбинку. Так увлеклась, что даже не заметила, как я прошла в зал.
В зале – никого. Дверь в спальню была закрыта. Прильнула ухом к двери и услышала до боли знакомую присказку мамы: «сейчас я вызову ментов ублюдок», а заботливый отец пытался ее успокоить: «заткнись овца, сейчас ребенка напугаешь», а мама опять: «вызову ментов – вызову ментов»… Никого она, естественно не вызовет, подумала я: сколько себя помню, мама всегда, понапрасну кричит эту фразу, но сама не исполняет своих обещаний.
По телику шел какой-то документальный фильм. Собравшиеся в нем старики говорили о призраках, о том, что они якобы существуют, но я не поверила им. Пощелкала каналы – везде, примерно, то же самое. Ску-ко-ти-ще.
Прилегла на диван поглазеть в потолок: вдруг в таком положении, что-нибудь да вздумается, придет идея какая-нибудь насчет того чем заняться. Но вместо идеи в голову лезла одна лишь поэзия:
«За окном гуляют куры» там та там, там там там та… «грязь пернатым не по чем».
Родились две строчки – решила их записать, чтоб не забыть. Нашла в тумбочке под телевизором карандаш и какой-то альбомный лист, исписанный печатными буквами с одной стороны. Села по турецкий на пол, положила перед собой перевернутый лист, написала две строчки и впала в раздумья: там та там, там там там та…
Ломала-ломала голову над третьей строчкой, пока не вошла мать, точнее, не вышла из спальни.
– Это ты что, ложилась на диван в грязной куртке?
– Она вовсе не грязная – возмутилась я.
– А на чем ты это там пишешь? – мать подбоченилась; три тяжелых шага уменьшили расстояние между нами до вытянутой руки. Ее лицо покраснело, голова соскользнула с плеч, брови насупились, и только тут я заметила блеклую гематомку на правой щеке. Видно отец постарался.
– Ты что, совсем дубина? – рявкнула она.
Понимая, к чему все идет, я оттолкнулась руками от пола и поднялась на ноги, а между этим мои губы настолько невыразительно продрожали слово: «ненавижу», что вряд ли маме удалось, это заметить (конечно, если только, мое лицо в целом не говорило о том, как она меня уже достала!)
Она наклонилась, (я могла бы свободно ткнуть ей пальцем в макушку) подняла лист с начатым стихотворением, выпрямилась, пристально рассмотрела его и выхватила из моей руки карандаш. Пришлось узнать, что писала я на обратной стороне какого-то «сверхважного» документа по оформлению заявки на социальные выплаты.
– Чеши отсюда, поэтесса хренова!
– Эй!
– Писака сраная!
– Отстань!
И бросила в меня карандаш.
Я пинала во дворе лужи. И меня переполняла злость. Но злилась я не столько на мать, преданно не изменявшую своему характеру, сколько на себя, простофилю, застигнутую этим характером врасплох: я поступилась, потеряла бдительность, не нужно было так безмятежно отдаваться занятию письма. К тому же моя ненависть к матери утолилась, еще тем, что отец (судя по гемотомке на щеке) треснул ей как следует, и убедив себя, в том, что это моя собственная месть, пусть и проделанная чужими руками, я вновь проглотила обиду.






