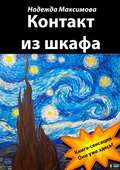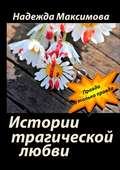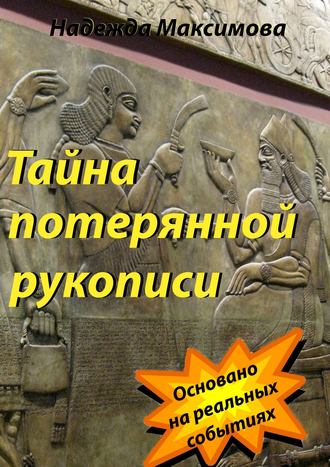
Надежда Максимова
Тайна потерянной рукописи
Глава 3.
Спецназ не выходит из боя
Поскольку на последней страничке в папках нашего нового друга-пушкиноведа обнаружился его контактный телефон, мы решили не обедать в конторской столовке, а вызвонить ученого товарища и пообедать вместе на свободе, в городском кафе.
Погоды в эту осень стояли дивные, левитановские, так что мы шли, подставляя лицо нежаркому золотому солнечному сиянию, и испытывали чувство глубокого внутреннего удовлетворения.
Возле обговоренного для встречи пункта общественного питания мы остановились и огляделись по сторонам. О! На противоположной стороне улицы как раз нарисовался наш литературовед. Он, приветственно помахивая нам ладошкой, стоял на остановке общественного транспорта, и за его спиной, ожидая автобуса, толпилось еще человек двадцать. Мы дружно заулыбались в ответ.
В этот миг неизвестно откуда вынырнувшая мощная иномарка, даже не пытаясь притормозить, со всей дури выскочила на тротуар и врезалась в группу людей, целясь прямиком в нашего спецподготовленного ученого.
Тот подпрыгнул и перекатился по капоту.
Практически никто больше не успел отскочить. Удар был страшный, и асфальт мгновенно сделался мокрым и липким от крови.
Дурная иномарка, взревев на месте мотором, сделала движение, чтобы вырулить из образовавшегося месива. Но дядя Миша, единым духом выхватил из своего баула что-то тяжелое, и в классическом стиле, подобно античному дискоболу метнул ей это что-то в лобовое стекло.
Тут же, неведомо каким образом оказавшийся на ногах, спецназовец рванул дверцу со стороны водителя и выволок того, мотавшего очумелой головой, из машины.
Ваня уже набирал телефон Службы спасения, а я ринулся помогать пострадавшим.
От момента мирного московского полдня до наступившего ужаса прошло всего несколько секунд и люди еще не успели осознать, что произошло, их только теперь настиг первый удар боли.
Вообще человеческий организм страшно хрупкий и исключительно выносливый одновременно. Если не дать истечь кровью, предотвратить наступление болевого шока, то даже самые тяжелые раны, и самые жуткие переломы с торчащими из кровавого месива обломками костей заживут. И люди, может быть, даже не останутся инвалидами. Было бы кому оказать первую помощь!
К счастью, нас этому обучали, так что я действовал, как хорошо отлаженный автомат. Руки-ноги-туловище работали как бы сами собой, а в голове билась только одна мысль: «Спасти, спасти, спасти!».
Когда подъехала первая машина «скорой помощи», у большинства пострадавших кровотечение мы уже остановили. Остановка, бывшая когда-то вполне мирной и заурядной, напоминала теперь переполненный полевой лазарет, возле которого прямо на асфальте лежали тела.
Я выглядел жутко: в процессе оказания экстренной помощи перемазался, как вурдалак во время пьяного пиршества, но зато люди уже не кричали от боли. А когда подоспевшие медики начали укладывать их на носилки, пожилой врач даже спросил у меня: «Вы что, промедол им вкололи? Что-то они тихие…». «Да нет, – удивился я. – У нас ничего такого с собой не было. Никто же не ожидал…». «Ну-ну»…
На этом скверные новости не закончились.
Оказалось, что пока мы возились с ранеными, наш спецназовец, пытавшийся заломать обкуренного водилу, получил от его приятеля-пассажира удар ножом в спину.
Видя, что мы по уши увязли в перевязках и наложениях жгутов, он каким-то образом умудрился молча вырубить нападавшего и только после этого потерял сознание.
«Спецназ не выходит из боя», – сказал по этому поводу дядя Миша.
* * *
В больнице нас не пустили дальше приемного покоя. Молоденькая медсестра строго указала на облупленную казенную ванну, где обмывали неходячих новоприбывших, и велела мыться и стираться. А для того чтобы впоследствии мы не пугали больных своим растерзанным видом (я, например, в процессе наложения жгутов оторвал от своей рубашки оба рукава), выдала нам суровые темно-синие халаты.
Помывшись и приодевшись в больничное, мы стали выглядеть как пациенты, прошедшие долгий курс лечения от алкоголизма. Так что все встречные смотрели на нас с брезгливой жалостью, но, слава Богу, не со страхом. Ради этого стоило потерпеть.
Регистраторша, к которой мы обратились с расспросами, сообщила, что Игорь Сикорин, поступивший с ножевым ранением в спину, находится сейчас в операционной. Врачи делают все возможное, но заранее обещать ничего нельзя.
После того, как мы предъявили удостоверения, медицинская дама немного смягчилась и, невзирая на наш скорбный вид, извлекла из ящика стола кожаную папку, найденную при пострадавшем. Оказывается, перед операцией наш спецназовец на несколько минут пришел в сознание и велел передать документы товарищам из органов.
– Вы ведь те самые? – уточнила она, испытующе глядя поверх очков. – О которых он говорил?
– Да-да, – уверили мы. И, заполучив бумаги выбывшего из строя пушкиноведа, на такси, чтобы не шокировать публику волосатыми дяди-Мишиными ногами, торчавшими из-под больничного халата, отправились домой.
Дальнейший путь по поискам таинственной рукописи нам предстояло проделать самостоятельно.
Глава 4.
Что можно извлечь из школьного курса литературы
Самое просторное (хотя и съемное) жилище имелось у меня, так что продолжить исследования решено было в моих апартаментах.
Расставшись с казенным халатом и выдав сослуживцам цивильную одежду из личных запасов (дяде Мише моя футболка пришлась практически впору, а Зайкин утонул в рубашке от парадного мундира и долго сосредоточенно закатывал на ней рукава), я распорядился готовить обед, а сам позвонил сестрице Елене.
Та, узнав, что у нас возникла острая нужда в ее познаниях школьного курса литературы, страшно оживилась и пообещала прибыть максимально быстро.
– С уроков не сбегай, – успел крикнуть я, но девица, кажется, уже отключилась. Я вздохнул и побрел на кухню, где коллеги как раз закончили выгребать из холодильника и шкафов все наличные продукты и теперь продумывали для них наиболее аппетитные сочетания.
– Эх, огурчики маринованные пропали, – сетовал дядя Миша, пристраиваясь возле раковины чистить картошку.
– Здесь вроде не было огурчиков, – удивился я.
– У меня были. Утром зашел в магазин, купил. А когда тот гад в машине завозился, собираясь выруливать прямо по раненым, залепил ему банкой в лобовуху.
– Так вот чем ты его контузил!
– Ну да. Вроде на дело пустил, а все равно жалко.
– Не горюй, дядя Миша, – откликнулся сердобольный Зайкин. – Мы скинемся всем отделом и, по итогам квартала, премируем тебя трехлитровой банкой.
– Отзывчивый какой. Дорога ложка к обеду!
Сестрица Елена прибыла действительно оперативно – мы еще не успели сесть за стол. В качестве дополнения она притащила очкастенького одноклассника, который был маловат ростом, но держался солидно. Я заприметил этого паренька еще в прошлом учебном году – он частенько появлялся рядом с Еленой и, судя по всему, пытался за ней ухаживать.
– Семен, – представился очкастенький, и мы торжественно поздоровались за руку.
За едой он держался со спокойным достоинством, и ел хорошо, что внушало надежду.
Когда, завершив прием пищи, все перешли в гостиную и расположились за большим столом, стоявшим в центре, я выложил на стол кожаную папку. Поскольку ее владелец выбыл из строя, нам предстояло вести поиск с самого начала и без подсказок.
– Значит, мы ищем потерянную рукопись Пушкина, – уточнил солидный Семен, выслушав мою вступительную речь.
– В итоге да. Но сначала необходимо провести анализ и выяснить: а была ли таковая вообще? Сам понимаешь, трудно найти то, чего в природе не существует.
– Угу.
Паренек притянул к себе прозрачный файлик с листами, которые мы уже изучили, и погрузился в чтение. Елена с секундным опозданием проделала ту же операцию, но эта ее задержка сказала мне о многом. Похоже, девчонка так верит в своего приятеля, что считает свою помощь не особенно и нужной.
Пока дети просматривали бумаги (у них ушло на это минут десять), Ваня Зайкин нетерпеливо ерзал. Бедняге хотелось курить, но из педагогических соображений сделать это он не осмеливался.
– Итак, коллеги, – поторопил я, – какие есть мысли?
– Думаю, что в исследовании предложенной темы, – степенно начал Семен (какие формулировки малец заворачивает!), – стоит опираться на хронологию. Не случайно же ей уделено столько места, да и эпиграф, в котором утверждается, что «Все висит на датах», наводит на определенные размышления.
– Допустим. Дальше.
– Первое, что бросается в глаза, – высокая творческая активность Пушкина в период до 1833 года. Именно в это время написаны все его крупные произведения.
Следующие годы помечены весьма скудно:
30 декабря 1833 года – произведен в камер-юнкеры.
11 апреля 1836 года – выход первой книги «Современника».
27 января 1837 года – дуэль с Дантесом
29 января (10 февраля) 1837 года, в 2 часа 45 минут пополудни поэт скончался.
Таким образом, совершенно непонятно чем Александр Сергеевич занимался в последние три года. В творческом плане, я имею в виду.
– Но погодите, – возмутился Зайкин, – а как же «Капитанская дочка»? Она, насколько я помню, опубликована как раз в 1836 году.
– Ну да. Но написана, скорее всего, гораздо раньше. В период, когда Пушкин работал по Пугачеву. Кстати, я не стал бы утверждать, что «Капитанская дочка» – лучшее произведение и вершина творчества Александра Сергеевича. Изложено довольно занудно и как будто бы даже кем-то другим.
– Вы все путаете, – вмешался я. – В последние годы жизни Пушкин занимался редактированием журнала «Современник», который должен был объединить талантливую молодежь и поддержать начинающих авторов. Тех, которые имели незаурядный литературный дар, но еще не заработали себе имя. Одним из таких авторов был выходец из малороссийской глубинки Николай Гоголь.
– А что, – оценил дядя Миша. – Поддержка талантов – дело архиважное! А то ходит этакий замкадыш, холодный, голодный, никому не нужный… А в нем, возможно (кто знает!) сокрыта грядущая слава России.
– Нет, это вы путаете, – бесстрашно продолжил гнуть свою линию очкастенький Семен. – Во-первых, выпуск журнала начался только в 1836 году.
Во-вторых, в «Египетских ночах» Пушкин дал поэтическому дару следующее описание:
«Однако же он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так он называл вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье».
Так что редактирование редактированием, но поскольку «страсть неодолима» то, по меньшей мере, два года – 1834 и 1835-й – Александр Сергеевич должен был что-то писать. А теперь ответьте: где это «что-то»?
– Угу, – сказал я. – Выходит, мы логическим путем пришли к выводу, что некая неопубликованная и вообще неизвестная рукопись Пушкина все-таки существовала. Так?
– Безусловно.
– Более того, произведение, на которое наш поэтический гений потратил как минимум два года, должно быть значительным. Масштабным! Согласны?
– Разумеется.
– А если учесть, что все крупные произведения Пушкина посвящены исторической теме, то…
– То находка нового неизвестного труда Солнца русской поэзии, – подхватил дядя Миша, – станет важнейшим событием культурной жизни страны. А может быть, даже всего мира в целом.
– Ой-ой, как пафосно, – поморщился эксперт Ваня, который все это время не отрывался от своего ноутбука.
– Вы, коллега, имеете что-то возразить?
– Имею. Дело в том, что находка, которую вы здесь так возвышенно предвкушали, давно сделана. Все найдено, опубликовано, занесено в академические издания и каталоги. И каждый культурный человек обязан об этом знать.
– Вообще говоря, да, – кивнул очками Семен. – В школьном учебнике указано, что Пушкин задумал масштабное историческое произведение, посвященное Петру Великому. Другое дело, что труд сей никогда не увидел свет, а нам, потомкам, достались только несистематизированные наброски, выписки из архивных документов и прочие подготовительные материалы. Которые действительно опубликованы.
– Так, – озадачился я. – Что же в итоге у нас получается?
Ответить никто не успел, так как в этот момент дядя Миша, который все время держал на коленях кожаную папку, доставшуюся нам в наследство от выбывшего товарища, что-то там внутри нащупал.
– Ба! – воскликнул он с детской непосредственностью, – да здесь потайное отделение!
Глава 5.
Письмо из прошлого
Повозившись совсем немного, находчивый наш старший прапорщик извлек на свет очередной файлик, в который бережно был запакован ветхий конверт, надписанный выцветшими чернилами.
Конверт был изрядно попачкан, углы истрепались… Но дата на почтовом штемпеле читалась совершенно отчетливо «22.05.1919».
Причем в далеком, революционном 1919 году конверт, похоже, не вскрывали. Он был аккуратно разрезан по краю чем-то острым и современным.
В общем, это было самое настоящее письмо из прошлого.
Дядя Миша торжественно выложил находку на стол, и мы, сгрудившись, принялись разбирать адрес, начертанный крупными старомодными буквами безо всяких знаков препинания.
«Псковской губернии
Порховского уезда
Гарской волости
село Жабинец
Андрей Анисимовичу
из Болдино».
Болдино! Как много в этом звуке…
Кстати, упоминание Псковской губернии тоже выглядит многозначительно. Потому как именно там располагается село Михайловское – родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. И хотя в литературе не сложилось понятие «Михайловская осень» или, к примеру, «Михайловская зима», Александр Сергеевич бывал там неоднократно и написал в родных пенатах ряд широко известных произведений. В том числе, драматического «Бориса Годунова» и фривольно-жизнерадостного «Графа Нулина».
Однако почему письмо столько лет оставалось нераспечатанным?
Повертев конверт так и сяк, мы обнаружили, что второй почтовый штамп, пропечатанный на обратной стороне конверта, несет дату «7.06.1919». А отметок псковских почтовиков на нем не просматривалось. Значит, письмо было отправлено, но с полдороги вернулось. Интересно, почему?
Поместив конверт под яркую лампу, мы, внезапно, сделали новое открытие. Фиолетовое пятно, которое первоначально выглядело как заурядное загрязнение, оказалось бледным чернильным штампом. И на нем, хотя первое слово не читалось вообще, удалось разобрать отдельные буквы. Смысл, похоже, заключался в том, что письмо не было вручено адресату «по важным (или, возможно, „сложным“) обстоятельствам».
В общем, была какая-то серьезная причина. Можно, кстати, уточнить у почтовиков – имеется ли какая-либо официальная формула сообщения о невозможности доставки письма адресату. Ведь даже штамп специальный существовал!
Ладно. Но как выяснить, что же это за «важные» (или «сложные») обстоятельства помешали письму добраться из Болдино до вожделенного псковского села?
– Тоже мне проблема! – высокомерно высказался Ваня Зайкин, разворачивая к себе свой ноутбук.
А я решил пойти другим путем. В моих книжных шкафах существует полка, отведенная специально для различного рода карт и путеводителей. Я их покупаю в каждом городе, где удается побывать, и считаю увлечение подобного рода крайне полезным.
Путеводитель по Пскову, изданный в далекие социалистические годы, не подвел. Уже на первых страницах в нем обнаружились следующие строки:
«В мае 1919 года над Псковом снова сгустились тучи: у его окраин появились белоэстонские части и отряды белогвардейцев. Несмотря на мужество защитников, 25 мая город пал и был вновь освобожден только 26 августа. На псковскую землю пришел долгожданный мир».
Ага! Найденное письмо отправилось в свое путешествие 22 мая 1919 года. И как раз попало на линию фронта, преодолеть которую не смогло. Поэтому, так и не добравшись до адресата, послание вернулось в… Э-э-э… В общем, куда-то вернулось.
Но в руки отправителя не попало, а пролежало где-то нераспечатанным до тех пор, пока наш ученый спецназовец его не обнаружил. И счел, видимо, особо важным, так как поместил в потайной карман своей кожаной папки.
Сообщив коллегам результаты путеводительских изысканий, я предложил закончить предварительное исследование и приступить непосредственно к письму.
Право извлечь древний документ из оболочки доверили Елене. Никакой дискриминации – просто у дам ручки более нежные, да и аккуратность женского пола даст нам, грубым мужчинам, сто очков вперед.

Письмо из 1919 года
Сестрица не стала отнекиваться и, не без некоторого внутреннего трепета, извлекла из бумажного пакета прекрасно сохранившийся сдвоенный лист, исписанный полностью со всех сторон. Причем в последней строке стояла дата: «9 мая 1919 г.».
Хм. В те времена 9 мая еще не стало нашим национальным праздником. Обычный, вероятно даже будний день.
А на конверте проштамповано другое число – 22 мая. То есть на почту письмо попало с заметной задержкой. Почти на полторы недели позже того, как было написано. Интересно, почему?
Может быть, отправитель просто забывал опустить конверт в почтовый ящик, таскал в сумке, и каждый вечер досадливо хлопал себя ладонью по лбу, дескать, вот чудак, опять забыл зайти на почту?
Сомнительно. Время тогда было сложное, военное, не располагающее к пустым словесам.
Нет, в этом конверте должно содержаться что-то важное!
Казалось бы, чего попусту гадать: письмо перед глазами. Прочти и узнай обо всем.
Не так-то просто!
Во-первых, незнакомый и достаточно витиеватый почерк. Причем многие буквы автор письма пишет слитно – верный признак образованного человека. А ведь дело происходило еще до того, как в советской России началась поголовная ликвидация неграмотности3.
Если учесть, что СССР был образован 30 декабря 1922 года, то из приведенного текста становится ясно, что культурная революция победила не ранее, чем через 4 года после того, как некий, пока нам неизвестный житель села Болдино написал свое таинственное послание.
Значит, он получал образование еще в царское время.
Но приступим же к чтению.
Текст письма:
«Дорогой брат Андрей Анисимович и дорогая Наталья Ильинична, а также и всем вашим детям. Шлю от себя и от своих детей свой глубокий поклон и пожелания вам всем доброго здоровья. Дорогой брат, у меня великое горе. То есть 24 марта сего года скончался свет мой Андрюша. Был болен 3 недели. Теперь я остался круглый сирота. Даже не с кем стало и поговорить. После его смерти мне пришлось тоже вылежать в постели. Той же болезнью три недели. Сейчас немного поправился. Могу землю выкопать. Но меня еще посетило горе. 8 сего мая пал у меня двухлетний жеребенок, за которого недавно мне давали 3000 рублей. Дорогой брат Андрей Анисимович, у меня великая просьба. Будь добр, нельзя ли тебе прислать ко мне хотя на сенокос одну из дочерей. А то право не знаю, что мне без твоей помощи будет и делать. Нужно еще передать тебе передачу от известной тебе Натальи Николаевны. Это важно. По получении сего письма уведомь меня как вы все поживаете, и где у тебя в настоящее время находится твой сын Иван Андреевич. Буду ждать твоего ответа с нетерпением. Не откажи дать ответ поскорее. Затем прощай. Желаю тебе и всему твоему семейству всего, всего доброго, согласия и здоровья.
Твой брат Василий Анисимович Смирнов.
Село Кистенево, Нижегородской губернии,
Большеболдинского уезда.
9 мая 1919 года».
Итак, мы узнали, что отправитель письма – Василий Анисимович Смирнов – в начале мая 1919 года попал действительно в очень сложные обстоятельства. На грани жизни и смерти.
Он остался больным, одиноким, и для того, чтобы выжить, ему срочно требовалась помощь родственников.
Но письмо через линию фронта переправить не сумели, весточка от брата не пришла, и Василий Анисимович, весьма вероятно, умер, так и не дождавшись ответа. А невостребованный конверт кто-то, не решившись выкинуть, засунул в коробку с ненужными вещами, хранившуюся, вероятно, на чердаке, и там, в дальнем углу, отчаянная просьба о помощи оказалась забыта почти на столетие.
Печальная история. Но, увы, не содержащая ничего сверхобыкновенного. В годы гражданской войны разыгрывались и не такие драмы.
Но Болдино… Кистенево… некая таинственная Наталья Николаевна, упоминаемая в письме. Как удивительно все это ложится в канву жизни великого нашего поэта.
А если вспомнить, что в Болдино жили не только бывшие дворовые семьи Пушкиных. Александр Сергеевич, как человек любвеобильный (поэт!), говорят, не пропускал своим вниманием и пригожих сельских молодок. Так что у него там родственники (потомки) до нашего времени могли оставаться!
Это, кстати, неплохо объяснило бы высокую грамотность писавшего, бывшего, судя по тексту, сугубым крестьянином с крестьянскими же заботами (сенокос, жеребенок, землю копать…).
– Но получается, что передачу от Натальи Николаевны, – заметил, предварительно крепко почесав лоб, эксперт Зайкин, – отправитель письма сделать не сумел. Раз письмо вернулось, значит, псковский родственник узнать о беде не смог, и ни дочь на сенокос, ни сына Ивана Андреевича для получения посылки в Болдино не отправил.
– Выходит, эта штука еще там, – завершил мысль солидный Семен. – Нужно ехать в Болдино.
С этим мнением все немедленно согласились.
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полон – таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).