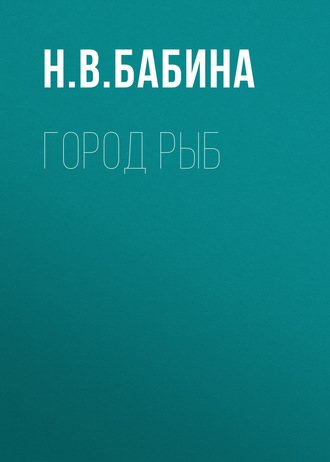
Н. В. Бабина
Город рыб
Черное болото
Этим летом я сама себе напоминаю хомяка в колесе: пока колесо стоит, набиваю защечные мешки, осматриваюсь с интересом, даже красоту навожу… Но вот кто-нибудь крутанет колесо – и побежала. Остановиться невозможно. Сходя с ума. Изнемогая. А сообразить, как соскочить с колеса, не хватает мозговых извилин.
…Я бродила по дому, не зная, за что приняться. Точнее, зная: надо бы убрать в доме перед приездом Ули, только вот браться за уборку совсем не хотелось. Вместо того, чтобы усердствовать по закоулкам дома с пылесосом, я рухнула на диван и щелкнула пультом телевизора.
– Радетели за народ всех мастей и оттенков, – сразу же послышалось с экрана, – давно обанкротившиеся политиканы и воротилы бизнеса, для которых банкротство – лишь вопрос времени и интереса правоохранительных органов, усмотрели в объявленных досрочных выборах возможность удовлетворения своих мелких, но навязчивых амбиций.
«Где все-таки берет БТ[16] таких дикторов? – лениво подумала я. – Нет, теоретически, конечно, понятно, по каким критериям их туда отбирают. Но все-таки, все-таки… Ведь такую вот сразу и не найдешь, поискать надо. Щеки в ширину плеч, глазки как буравчики в толще залежей жира. Даже лоб жирный. Сиськи распирают зеленую блестящую шмотку – ну точно жаба на нересте. Да при такой внешности верх карьеры – сидеть “на очке” и объявлять “занято!”»
– Вот и сегодня, – вещала тем временем бабища в телевизоре, – появился очередной кандидат в президенты. На этот раз это некто Антон Бобылев, директор унитарного предприятия «Гамма».
Меня подбросило на диване. На экране изменилась картинка: мой муж, сидя в своем кабинете, что-то говорил, но слов не было слышно, вместо него толстячка вещала за кадром:
– Белорусский народ прекрасно помнит, сколько бед принесло ему в прошлом чернобыльское гамма-излучение, сколько горя и слез, материнских бессонных ночей, страданий детей. Гамма – знак беды для нашего народа, и симптоматично, что человек, возглавляющий предприятие с таким названием, пользуясь демократичностью нашего государства – возможно, излишней, – пытается добиться своих явно неблаговидных целей за счет либеральности белорусских законов. Несомненно, что наши люди смогут отличить подлинное от наносного и разберутся, что на самом деле представляет собой каждый из кандидатов и кто из них действительно способен защитить нашу страну от грозящей катастрофы…
Она трещала дальше, но я уже не слушала.
Заболела и закружилась голова. Он сошел с ума! Бросилась к телефону – и городской, и мобильник прочно заняты. Сошел с ума! Невидящими глазами я смотрела на экран, на котором уже грохотали какие-то бульдозеры.
Он сглупил, это понятно. Кратковременное помутнение рассудка. Ничем другим нельзя объяснить такой шаг. Добьется интереса правоохранительных органов, если не чего-то похуже. Добьется, что и его кости, и кости его предков да двадцатого колена тщательно перемоют и так же тщательно смешают с грязью. Добьется, что вытащат на свет и мою тайну, мой вечный страх, мою вечную вину, которые я считала похороненными навсегда.
Вечер прошел сумбурно. Телефоны Антона по-прежнему раздражительно отвечали короткими гудками – занято!; телевизор я просто боялась включать. Боялась я и телефонных звонков, которые могли уже сегодня раздаться здесь, у меня. Но старый телефонный аппарат в кухне на полочке молчал и весь вечер, и утром – готовя завтрак, я все время прислушивалась.
Вдруг из леса, как продолжение моих тревожных ожиданий, – отчаянный детский крик. Я уронила драник, который в тот момент переворачивала на сковородке, и бросилась к двери – на такой крик реагируешь мгновенно. Вихрем вылетая из дома, машинально схватила плоскорез, стоявший у крыльца, помчалась к калитке, той, что «за грибами». Краем глаза увидела, что за мной, опираясь на палку, заспешила бабушка.
От калитки до леса несколько десятков метров, и я сразу увидела троих детей. Девочка-подросток, девочка помладше и мальчик. Они продолжали кричать. Что их напугало? Бродячая собака? Пьяный хулиган?
Бледные испуганные лица, залитые слезами. Старшая девочка, согнувшись, держалась рукой за лодыжку, вопила:
– Змея! Меня укусила змея!
– Боюсь! Боюсь! – заходилась криком младшая.
Мальчик просто визжал.
Это была гадюка. Толстая. Головка непропорционально маленькая. Гадюка замерла на стволе поваленной сосенки, только раздвоенный язык шевелился. Я прицелилась, одним ударом плоскореза отрубила гадючью головку и сама чуть не закричала, когда обезглавленное тело змеи упруго заметалось, забрызгивая песок кровью.
Когда гадючья кровь капает на хлеб, говорит поверье, хлеб стонет. А песок безмолвен, что на него ни пролей. Он лишь потемнел, впитав в себя кровь гадюки. Я не боюсь пресмыкающихся до потери сознания, как некоторые дамы, но сейчас радужная дуга завертелась у меня перед глазами.
– Обопрись на меня, девочка. Не кричи! Все перестаньте кричать! Змеи больше нет. Не кричите, я сказала!
Но дети кричали. Бабушка уже почти бежала к нам. Я испугалась, что она неминуемо упадет и, не дай бог, сломает шейку бедра. К счастью, она не упала. Добежала, запыхавшись, выхватила у меня из рук плоскорез и с размаха рубанула им возле моей ноги. Еще одна, чуть поменьше, обезглавленная змея судорожно задергалась на песке. Удивительно, как это бабуля сразу увидела вторую гадюку: очки у нее сильные, конечно, но главное – бабулина интуиция.
Какие норы свои искали здесь змеи – не знаю. Может, у них здесь была змеиная свадьба, может, проходил симпозиум или предвыборный съезд? Раньше в Добратичах змей не было.
– Вызывай скорую! – распорядилась бабушка. И о детях: – Это Уругвайцевы внуки.
Я с трудом преодолела подступившую к горлу тошноту и побежала домой. У ворот оглянулась: укушенная девочка хромала к забору, опираясь одной рукой на плоскорез, другой – на бабушкину палку, а баба вела за руки заплаканных малышей.
Бестолково тыкая мимо кнопок, я набрала номер Зарницкой.
– Ленка, здесь девочку укусила гадюка, в ногу, что делать?
– Не паникуй. Обеспечь покой ноге. Никаких жгутов. Дай девочке крепкого чаю или лучше кофе. Вы в Добратичах?
– Да.
– Буду через пять минут, я в Страдичах.
Я поставила чайник на газ и бросилась встречать Зоську, только теперь я ее узнала: старшая внучка Уругвайцев.
Нога опухала на глазах, казалось, под кожей разливаются чернила. Зоська уже почти не могла ступить на больную ногу.
– Потерпи, зайчик, сейчас приедет врач, тетя Алена, а пока я тебе дам кофе, тебе от него полегчает.
Зося слабеющей рукой вытерла пот со лба и вдруг обмякла, зашаталась. Я подхватила тоненькое тельце под мышки, донесла до гамака. Зося потеряла сознание, откинулась на спину и странно захрапела. Столбенея, я смотрела на нее, не зная, что делать.
– Голову поверни ей! Набок! – бабушка возникла за моей спиной и сама повернула девочке голову. Зосю вырвало.
Засвистел чайник. Я заварила кофе, но он уже был ни к чему – хлопнула дверца Ленкиного мерседесика, и вот уже моя подружка в неизменном своем красном пиджачке бежит к нам, на ходу открывая докторский саквояжик, отламывает головку ампулы с прозрачной жидкостью и делает Зоське укол.
– Теперь в больницу, – командует Лена. – Не бойся, от укуса гадюки еще никто не умер, но девочке необходима капельница с антидотом.
Мы отнесли Зосю в машину, уложили на заднем сиденье; в Ленкин мерс-микроавтобус усадили малышей. Я села рядом с Леной.
– С Богом! – напутствовала нас бабуля. – Будьте осторожны!
Малышей по дороге высадили возле дома Уругвайца, быстренько объяснив ситуацию их матери.
Ленка лихо водит машину.
– Зачем же надо было убивать змей? – сердито отчитывала она меня, когда я рассказала, как все произошло. – Неуч!
– А что я должна была делать?! – возмутилась я. – Кормить их молочком из мисочки?
– Поймать и отвезти подальше в лес! Или на Черное болото! – отрезала Ленка, обходя на повороте какой-то дряхлый форд. – Что за темные люди – убивать змей!!! – Она возмущенно нажала на газ, и стрелка спидометра поползла к 140 (мы ехали по шоссе, построенному и замощенному булыжником еще во времена Польши; недавно булыжник залили асфальтом, и дорога стала вполне современной). – Все случаи смерти от укусов ядовитых змей в Европе – результат неправильно оказанной помощи. Так называемой помощи! Закрутят жгут на ноге – вот тебе и отравление продуктами распада тканей. Или положат на спину, а человек без сознания, вот и захлебывается рвотой («Голову поверни ей!» – холодея, вспомнила я.). Элементарщины не знают! А как плоскорезами лупить – это знают…
За окном мелькали дома предместья. Зося стала дышать ровнее – колесо остановилось, и хомяк заметил, что едет в Брест в перепачканной юбке и ветхой, в мелкие дырочки, майке. А Ленка все читала мне лекцию об оказании первой медицинской помощи, при этом одной рукой она поворачивала руль, а другой – набирала на мобильнике номер приемной областной больницы: там ее все знали, потому что и врачи держат домашних животных.
Ленка – ветеринар. Ее мама когда-то категорически не пускала ее в ветеринарный институт – в наши молодые годы «звериные врачи» могли надеяться только на работу в колхозе, и Ленкина мама искренне не хотела дочери такой доли. А хотела, чтобы она стала учительницей – это гарантировало заработок и определенный социальный статус. Мама не могла предвидеть, как все обернется, и хотела как лучше. Не могла предвидеть и Ленка, но все-таки настояла на своем, ибо, сколько я ее помню, нежность ее ко всему, что дышит, была безграничной. Так Ленка не стала учительницей начальных классов, а выучилась на ветеринара, покинув при этом семью: ее мама не прощала непослушания, а это был настоящий бунт. Теперь у Ленки своя ветлечебница, две дочери от разных мужей, приемный сын и внук. Алый Ленкин пиджачок хорошо известен в Бресте и в окрестностях; к нам она приехала из Страдичей, где принимала роды у сенбернарихи стоимостью в полторы тысячи евро – любимицы семьи протестантского проповедника. У нее необычные руки – широкие, сильные, с длинными гибкими пальцами, феноменальная интуиция и способность не спать сутками, потому меня не удивляет, что она стала очень состоятельной – во всех смыслах этого слова. Третий муж Ленки моложе ее на пятнадцать лет; после того как он сказал однажды, что ради нее готов стать не только геронтоманом, но и некрофилом, она согласилась выйти за него замуж.
А познакомились мы с Зарницкой на картошке. Она тогда училась в шестом классе в 13-й брестской школе и была первой, кто заговорил с нами, деравенскими, выбиравшими бульбу на соседних бороздах. И единственной, не исключая и учителей, кто не хихикал, слыша нашу речь. Потом, когда мы с Ульянкой крепко подружились с Зарницкой, она получила от нас прозвище Заря-над-Бугом, или Зарница – от фамилии и еще больше от росписи: Заря – и заковырка.
Зосю устроили в реанимацию, в отдельный бокс. Чувствовала она себя лучше – подействовали лекарства. Доктор заверил меня, что опасности никакой нет, и, договорившись, что вечером Зосю навестит Зарницкая, а завтра приеду и я, мы покатили назад – Ленке надо было вернуться в Страдичи.
В Добратичах, высадив меня, Алена подняла капот, чтобы что-то там поправить, и попросила принести попить. Потому первой бабу увидела я сама: откинувшись, она сидела за столом на веранде, на лавке, голова откинута назад, платок слегка сполз. Ямка рта. Очки наперекос на худом желтоватом лице.
Она была мертва.
Чужая смерть
Хлопоты, связанные с похоронами, и сами похороны, на которые Ульянка все-таки успела, прошли для меня смазанно. Людей пришло немного, но отовсюду: тропинками, заросшими мыльнянкой и дождевиками, под тучей, неожиданно вспухшей за Бугом, из Страдче, Дуриче, Заказани, пришли люди – все моложе нашей бабы. Собрались добратинцы, за исключением старой Ляльки – она давно не ходит: отнялись ноги. Пришел и Афанасий Петрович – бабушкин дружбан из дачников. Сегодня за поясом у него не было топорика, с которым он обычно не расстается, но штаны были все те же – чисто выстиранные, когда-то синие. Он единственный заплакал, когда из дома во двор вынесли гроб. А еще цапля отозвалась: она, дугою выгнув шею, пролетала в тот момент над двором и крикнула: «Ай!». Я видела все через какую-то черную пелену: людей, гроб, цаплю – светлое пятно на темной туче, ползущей за ней вслед… Ульяну, Уругвайца, Калёниху, Ярошиху, Оксанку…
Запыхавшаяся Оксанка прикатила на велосипеде последней. Я ее не сразу узнала: она не пополнела, как можно было ожидать, но за то время, что мы не виделись, – а это с десяток лет – изменилась неузнаваемо. Она была как в воду опущенная. Мы учились с ней в одном классе, а сейчас в той же страдичской школе она директорствует. Кивнув нам, она положила велосипед на траву, подошла к гробу, поцеловала бабушкину руку. Выпрямилась, задумалась и погладила бело-коричневую руку покойницы.
По традиции мне нельзя было, но я все равно обмывала бабушку вместе с Ярошихой и Катей – сами они бы не управились. Ноги и руки отмыть не удалось – за ногтями, в мелких трещинках и капиллярах кожи осталась земля, настолько сильно въевшаяся, что ее не брало ни мыло, ни пемза. И тогда я подумала, что наша баба, которая скоро станет добратинской землей, была ею и раньше – по крайней мере, частично. По крайней мере, в части рук и ног.
Держась за край гроба, Оксанка заговорила. У нее изменился даже голос – в нем исчезли высокие и низкие тона, он звучал слишком ровно. Говорила она по-нашему, и люди удивленно подняли головы: видно, не ожидали такого от директора школы. Хотя слова были простыми.
– Вот и опять мы собрались. И снова хороним. Вот и вы, тетка Мокрина, нас оставили. Ушли от нас. Натрудились за жизнь, наработались. Не знали ни отпусков, ни выходных, а сейчас отдохнете. Земля вам пухом. Бог примет вашу душу и посадит одесную. А мы останемся одни, без вас. Зарастут бурьяном ваши черные стежки, нам уж их не выходить, не вытоптать. Не будет с нами ни вашей речи, ни вашей помощи, ни вашего совета, ни вашего привета.
Неизменной в облике Оксанки со времен детства осталась только небольшая белая вьющаяся прядь, выбившаяся из-под черного платочка; на ее лице и в вырезе платья на груди поблескивали мелкие капельки пота, несмотря на то что на улице быстро и заметно холодало.
– Вот хороним опять, и горько на сердце. Сироты мы давно, а без вас осиротеем еще больше. Мы вас похороним, а нас кто в землю положит, когда наш час придет? Останется ли тут хоть кто-нибудь? Что ж… В наш час, в нашу годину с нас и спросится, а вы спите спокойно, тетко, вы жизнь прожили достойно, и мы вас не забудем.
Оксанка поклонилась и отошла.
Тучу пронесло мимо – вместо дождя дохнуло холодом. Порывы ветра разносили по двору сладкий запах скабиозы и от желтого ослинника запах покойника. Гроб повезли на кладбище на телеге. Те, кто пришел из соседних деревень, пошли следом. Добратинцы же, кроме Уругвайца, на кладбище не пошли – не ходоки уже. Не те годы. Не пошла и Оксанка: обняв Улю, притулившись ко мне, объяснила, что ей срочно нужно вернуться в школу – сегодня должны привезти новые грифельные доски и парты, еле часок выкроила, чтобы попрощаться с бабой Мокриной. Однако пообещала зайти на днях – поговорить…
Рассказывать о похоронах нетрудно. О панихиде под высокими надмогильными соснами, о песке, высыхающем на глазах и время от времени стекающем ручейками в свежевыкопанную могилу, о том, как закрывают крышку гроба, как опускают гроб в яму и бросают на него полотенца, крест-накрест… Я видела рядом свое живое отражение – сестру, гусиную кожу на ее руках, белое лицо. Бабушка не раз строго наказывала нам не плакать на ее похоронах: плакать по такой старой людыне – против добратинского этикета. Ульянка не плакала; не плакала и я, но не только потому, что придерживалась наказа бабы, а и потому, что меня мучило, черной пеленой затягивало сознание – то, о чем я еще не успела рассказать Уле… Рассказывать нетрудно, трудно было там стоять.
На протяжении всех этих дней у нас не было свободной минутки, Ульянка даже не успела разобрать свои вещи. Как бросила сумку в сенях, так она там и стояла в уголке. Нам некогда было поговорить, а то, что я собиралась сообщить ей, нельзя было сказать походя, в спешке. Придерживаясь старого обычая, мы сидели по ночам возле бабушкиного гроба – сидели посменно, потому поговорить не получалось. Днем к гробу приходили бабы – только днем: уже не те годы, чтобы по ночам ходить через лес… А нам в это время надо было заказать гроб, договориться насчет могилы и с попом, почистить тридцать две селедки и столько же карпов, нажарить мягких котлет для старых добратинских, страдичских и заказанских зубов, купить водки и водички – и еще сто двадцать пять дел переделать… Хорошо еще, что Зарницкая помогала, разъезжая из Бреста – в Брест на своем мерседесике.
Сегодня, улучив минутку, она тихонько спросила меня: «Сказала?». «Нет, – тоже шепотом ответила я. – Пока нет».
Ни Антон, ни Юрка на похороны не приехали. Юрка, Ульянин муж, в Кракове готовился к международному конгрессу архитекторов. Он считался там ответственным организатором, потому мы решили, что лучше ему остаться и довести дело до конца: без него конгресс наверняка сорвется. А на Антона я рассчитывала. Я так и не смогла ему дозвониться – пришлось дать телеграмму. Поздно вечером он позвонил мне сам. Далеким голосом посочувствовал, пожалел, что не может приехать, и предложил прислать помощника с деньгами и машиной. Разозлившись, я отказалась от такой помощи и хотела было бросить трубку, как вдруг вспомнила жабу в телевизоре (к тому времени я намертво (какой страшный каламбур!) позабыла о ней и обо всем, с ней связанном).
– Тосик, что ты надумал? Зачем тебе это? Я так боюсь за тебя…
– Не волнуйся, – голос Антона стал мягче, приблизился, он явно не ожидал этого Тосика, напоминания о молодости и беззаботности, вырвавшегося нежданно и для меня самой. – Все будет хорошо. Ты же знаешь, я всегда играю наверняка, только с козырями.
Как жестко резануло это «играю»! Давненько мы с тобой не играли, я вообще забыла, что такое игры, – все в нашей жизни было даже слишком серьезно. Но я не успела ничего из этого сказать – на кухню, где я разговаривала, зашел Уругваец, а за ним – озабоченная Ульяна. Мое присутствие требовалось на очередном хозсовещании, и я поспешила попрощаться.
После поминок мы с сестрой не стали убирать со стола.
– Пошли наверх, – предложила Ульянка, когда все разошлись из-за большого, составленного из трех, стола. – Полежим немного. Ноги ноют.
В своей комнате она прилегла на диван и закрыла глаза рукой – бабушкин жест, который мы обе переняли.
– Кажется, мы сделали все так, как она наказывала, – сказала сестра, не открывая глаз. – Как хотела. Поп только мне не очень понравился – по-моему, слишком торопился. Как тебе показалось?
– Ульянка, мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь.
Ульянка открыла глаза и присела, опираясь на подушки.
– Бабушка умерла не сама, не своей смертью, – я решилась рассказать сестре все, что произошло. – Она умерла из-за того, что кто-то добавил в кофе кардиостимфорте. Я заварила кофе для Зоськи, когда ее укусила змея, но дать не успела – Зарницкая увезла нас в больницу. А бабушка, видно, по своей привычке, чтоб добро не пропадало, добавила в кофе молоко и стала пить… А там было это лекарство…
– Откуда ты знаешь? Почему не рассказала раньше?
– Когда мы приехали, наполовину выпитая чашка кофе стояла перед ней на столе. А знаю наверняка благодаря феноменальному обонянию Зарницкой. Прибежав на мой крик, она бросилась к бабушке и почти сразу объявила: «Она умерла». Знаешь, лишний раз убедилась, какая она молодец и какая я недотепа. Она настояла на том, чтобы мы перенесли бабушку в дом, вызвала скорую: а вдруг реаниматоры все же… До приезда скорой делала искусственное дыхание… А потом, когда скорая, констатировав смерть, уехала, мы вернулись на веранду. Я сидела как истукан и ничего не могла сказать, а она набирала по мобильнику Хведьку… И вдруг как-то странно понюхала воздух – как собака, бывает, делает стойку. Потом подошла к столу, взяла чашку с кофе, понюхала и попробовала на язык… После чего удивленно посмотрела на меня и сказала: «Знаешь, Алка, а в кофе что-то добавлено. А ну, дай-ка пачку!». Понюхала и ее и заявила: «Возьму-ка с собой и сделаю анализ!». Вечером она снова приехала и сказала, что в заваренном кофе, так же как и в пачке, нашла кардиостим-форте. Очень большую дозу. Достаточную, чтобы вызвать сердечный приступ.
– А врачи скорой ничего не заметили? – удивилась сестра. – Ничего подозрительного?
– Конечно, нет. Девяносто семь лет! Чего тут подозревать, какие могут быть подозрения. Старая она. Написали справку, и все. В справке, кстати, написано, что причина смерти – сердечный приступ, но никому и в голову не пришло, что он спровоцирован. Никто бы ничего и не заметил, если бы не Зарницкая.
Мы смотрели друг на друга. Две сестры, похожие до невозможности. Только одна с чуточку искалеченным телом и сильно искалеченной душой. Я читала ее мысли, как свои. Из-за меня Уле в жизни досталось в хвост и в гриву; как сестра я далеко не подарок. Бывало всякое. Она искала меня в трущобах на Розы Люксембург и находила там в бессознательном состоянии. Она платила докторам за выведение меня из запоя. Было дело, мы с ней целый год не разговаривали. Из-за меня ей пришлось давать взятку. Однажды я уже имела отношение к делу об убийстве…
И вот опять.
Самое главное, что ситуация абсолютно непонятная. Кто и зачем подсыпал кардиостим-форте в кофе? Зачем и кто?
– Так, – Ульянка помолчала. – Ну и куда ты снова вляпалась?
Я замотала головой.
– Нет, я тут ни при чем, точно. Даже представить себе не могу…
– А я могу! – сестра вскочила и заходила по комнате. – Я могу! Ты снова взялась за старое! – она села и потерла лоб. – Сколько можно, Алла! Мы же договаривались!! Уже пятьдесят не за горами!
Я молчала, сдерживая слезы: они подступили, как всегда, неожиданно.
Ульянка взяла себя в руки.
– Ну, прости, сестричка, – она обняла меня за плечи.
Я вытерла глаза.
– Это ты прости меня.
– А твой кардиостим-форте, где он? – спросила Ульянка.
– На месте.
У меня проблемы с сердцем, и я должна постоянно принимать этот препарат, но только по полтаблетки в день. Мы с Зарницкой проверили: все мои лекарства оказались нетронутыми.
– Так, так, так… Значит, ситуация такая. Кто-то подсыпал в кофе сильный сердечный препарат. Следует полагать, с целью отравить. Насколько я знаю, им можно смертельно отравить даже здорового человека, если доза большая. А больного – вот как ты…
– Или как ты, – бросила я.
Ульянка на секунду задумалась и кивнула.
– Да, как я. Нам достаточно превысить дозу, чтобы спровоцировать опасный сердечный приступ… Зосе, может, ничего и не было бы – она молодая, и у нее, слава богу, с сердцем все в порядке… У бабушки сердце было очень изношено, это так, но она никогда не пила кофе… Ты правильно заметила: то, что кофе выпила она, – роковая случайность. Значит, значит, значит… Значит, с уверенностью можно утверждать: кардиостим-форте в кофе предназначался не для нее… Для тебя?
– Не знаю… Но я видела смерть… За границей, ночью…
– Алка, а я видела початую бутылку виски за холодильником на веранде… Не удивлюсь, если вскоре ты углядишь и чертенят в межъящичном пространстве.
Пойманная на месте преступления, я молчала. В доме было очень тихо.
– Бабушка умерла не своей смертью. Чужой. Либо твоей, либо моей. Это все, что мы знаем.
– Нет, я, действительно, видела смерть, – начала объяснять я и споткнулась. До меня вдруг дошло, что сказала Ульянка. – Твоей смертью? Тебя хотели отравить?
Неизвестный злоумышленник хотел смерти Ульяны? Я высказала такую версию в раздражении, из-за того что она сразу же обвинила меня. А она отнеслась к этому так серьезно?!
И в этот момент, когда я безмерно удивилась, а солнце опустилось очень низко, и его лучи подчеркнули в каждом колере красные тона, когда свет на улице ненадолго стал совсем фантастическим, а стволы сосен – медными, послышалось знакомое тарахтенье мотора: к нашим воротам направлялся трактор «Беларусь», а за ним меланхолично, но резвой трусцой бежала лошадка, запряженная в телегу.
Это ехали к нам Толик и Валик. Еще два человека из нашего детства. С ними связаны не общие, а разные воспоминания сестер-близняшек: зеленый шелковый мох, туман, песок, налипающий на холодную кожу, худоба, из-за которой можно пересчитать ребра… Мой Толик – моя часть воспоминаний.


