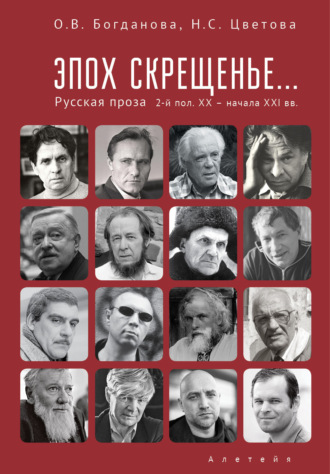
О. В. Богданова
Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ – начала ХХI в.
– принцип правдивости, предполагающий «прямоту и нелицеприятность» художественного высказывания, обеспечиваемые подлинным знанием жизненного материала;
– отрицание «вычурности», «безвкусицы», «надуманности», требование высокой художественности, точности литературного образа, без которых нельзя проникнуть «в глубинные процессы жизни»;
– актуальность, предполагающая «постановку насущных вопросов строительства нового общества»;
– антропологичность и психологизм – «изображение подлинной духовной жизни советских людей» (с. 332).
Выведенная Абрамовым программа уничтожает определяющие смысловую структуру и поэтику «бесконфликтных» сочинений неразличение реального и реалистического, склонность к патетике, заставляет размышлять об «истинном содержании» реалистической типизации (с. 308), настаивает на необходимости отказа от «прекраснодушных вымыслов»(с. 312), которые проявляются в «облегченном» и «поверхностном» изображении «положительных героев», как правило, лишенных «всякой противоречивости и внутреннего развития» (с. 314). И основана новая парадигма на традиционном представлении о литературе как особом средстве познания действительности, способствующем воспитанию человека. А формировалось это представление на основе идей Аристотеля, Лессинга, Гегеля, Белинского…
Оригинальные идеи, мысли, концепции, как правило, получают соответствующую речевую форму. Статья Фёдора Абрамова – ещё одно доказательство этой аксиомы. Абрамову – критику удаётся преодолеть стилевую монотонность, характерную для публицистики 1950 – х. Статья бесспорно выигрывала в сравнении с поучительно – констатирующими высказываниями достаточно популярных тогда в Ленинграде В. Кетлинской, А. Караваевой и других уже признанных критиков и даже по сравнению со стилистикой кандидатской диссертации самого Абрамова. Во – первых, очевидно интонационное преимущество, которое обеспечивалось ориентацией на принципы публичной коммуникации, разработанные классической риторикой, в первую очередь, особой формой рассуждения, предполагающей использование такого средства убеждения, как аргумент «от противного». Абрамов несколько раз прибегает к формулам, которые в те десятилетия не так часто использовались в публичной коммуникации: «спору нет», «быть может, нам возразят», «конечно… и всё же», «посудите сами», «разумеется, и такой конфликт имеет право на существование…», «пусть не подумает читатель, что мы возражаем…», бесчисленное количество раз использует риторические вопросы и вопросно – ответные конструкции. И по содержанию, и по форме его статья – неожиданное в контексте только что завершившегося десятилетия приглашение к размышлению над поставленными вопросами.
Но главное, при суммировании обозначенных Абрамовым теоретических установок станет ясно, что, по сути, он настаивает на необходимости восстановления связей с русской литературной традицией. Три года спустя в не менее знаменитой статье «Что такое социалистический реализм?» А. Синявский предложит иную программу литературного развития, которая должна осуществиться с ориентацией на модернистские концепции. В этом литературоведческом противостоянии будет зафиксирована суть наступившей исторической эпохи и масштаб литературно – критического таланта Абрамова.
Фёдору Абрамову – критику действительно удалось опередить время, потому что только в 1962 году издательство Академии наук СССР выпустит том знаменитой «Теории литературы», в котором основные вопросы теории литературы (образ, метод, характер) будут представлены в историческом освещении. В ключевой статье Г. Л. Абрамовича «Предмет и назначение искусства и литературы» будут обозначены те проблемы, которые почти десятилетие назад актуализировал Абрамов: новые принципы художественного воплощения жизненного материала; роль сюжета в художественном исследовании явлений действительности; выразительные возможности художественной речи при воссоздании картин жизни13.
Наконец, возвращение в историко – литературный дискурс статьи Абрамова неизбежно, т. к. обусловлено связью транслируемых Абрамовым идей, как минимум, с двумя проблемными полями современного литературоведения: с проблемой реалистической типизации, тенденциозности реалистического искусства. Сегодня чрезвычайно важна продемонстрированная открыто и последовательно убежденность Абрамова в убийственной силе любой тенденциозности, которая искореняется или оправдывается только глубинным постижением реальности, действительных, насущных проблем. Не менее актуальна уверенность Абрамова в необходимости системных научных представлений и аналитических подходов к явлениям жизни и литературы.
«Заговорил на вечном языке…»: этико – философские представления традиционалиста Ф. Абрамова
Сверхзадачу новой литературы Федор Абрамов определил однозначно: «Будить, всеми силами будить в человеке человека» (с. 99). Установка на решение этой задачи заставляла прямо говорить о вещах «неудобных», за что писателя не раз называли «озлобленным клеветником» и «очернителем»14. Он был одним из тех художников, кто возвращал русскую прозу к размышлениям над тем, «что такое человек, зачем он на земле, в чем смысл жизни»15.
Но как? На какой основе формировалось принципиально новое по отношению к предвоенному десятилетию писательское мировоззрение? Очевидно, что сложнейший процесс проходил под влиянием нескольких факторов. Ключевой из них – воспитание в крестьянской многодетной северорусской раскольничьей семье. Не менее значимый – испытание войной. Наконец, знакомство с творчеством отечественных и зарубежных писателей, работами мыслителей разных лет, состоявшееся на филологическом факультете ЛГУ. В поисках ответа на мучившие его вопросы Ф. Абрамов, как и многие иные литераторы послевоенного времени, в течение всей жизни обращался и к философским течениям – славянофильству и западничеству, марксизму и почвенничеству и др.
Анализ публицистики Ф. А. Абрамова позволяет говорить о влиянии на его мировоззрение идей Л. Н. Толстого, которого он ценил за «поиск истины, поиск веры и смысла человеческого бытия <…> неукротимое желание сделать себя и других людей чище и лучше» (с. 150). Абрамову импонировала гуманистическая по своей природе вера Л. Н. Толстого в человека, в его способность собственными силами достичь нравственного совершенства. Идея нравственного самоусовершенствования и самовоспитания личности была воспринята Ф. А. Абрамовым и трактовалась им как «душевная работа каждого, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который дан человеку, – судом собственной совести» (с. 102). Если, по замечанию А. М. Мартазанова, каждый из «деревенщиков», к числу которых причисляли и Ф. А. Абрамова, «ставил во главу угла какие – то специфические, близкие и дорогие именно ему ценности прежней деревенской жизни и, соответственно, предъявлял современности свой особенный счет»16, то, говоря об авторе «Братьев и сестер», справедливо выделить совесть как одну из определяющих категорий в его творчестве. Данное понятие не только нравственно – духовное, но и философское, предполагающее «ответственность человека и за собственные действия, и за все то, что происходит вокруг него»17. Такая дефиниция была наиболее близка Ф. А. Абрамову. В полной мере она характеризует и мировосприятие Михаила и Лизаветы Пряслиных, Анфисы Петровны, Лукашина, Ильи Нетесова («Братья и сестры»), Анания Егоровича («Вокруг да около») и др.
По словам вдовы писателя Л. В. Крутиковой – Абрамовой, в стремлении «жить по совести, по законам добра и справедливости»18 он видел национальную идею. Центральное место этой проблеме писатель отводил в своих публицистических выступлениях разных лет – «О хлебе насущном и хлебе духовном», «Слово в ядерный век», «Самый надежный судья – совесть», в открытом письме «Чем живем – кормимся»). Наиболее остро вопрос о дефиците совести как гаранте и регуляторе в межличностных отношениях ему удалось поставить в последних двух романах тетралогии «Братья и сёстры» – «Пути – перепутья» и «Дом».
В дневниковых записях Ф. А. Абрамова разных лет есть немало размышлений о его собственном нравственном выборе – порой мучительном, полном сомнений, требовавшим от него мобилизации всех духовных и физических сил, преодоления страха преследования, но чаще – бескомпромиссном, категоричном. Это было связано с необходимостью обращения в Союз писателей с письмом в поддержку А. И. Солженицына, с фактом неправомерности закрытия журнала «Новый мир». Значительное внимание писателя к духовно – нравственным проблемам современности связано с его дружбой с Д. С. Лихачевым, много писавшим о совести как некой душевной необходимости и основе гражданского общества.
Ф. А. Абрамов не принимал философию смирения и непротивления, ставшую, по его убеждению, одной из причин разорения русских деревень в 70–80 – е годы ХХ века. Напротив, он постоянно призывал к гражданской активности и ответственности за происходящее вокруг, не принимая революционный путь преобразований жизни: «Единственный путь, – писал он, – путь, сформулированный Гоголем в «Ревизоре», – бери метлу и мети свою улицу» (с.745). В этой гоголевской мысли, на наш взгляд, для Ф. А. Абрамова соединились главные для него идеи личной активности, ответственности, самовоспитания и «самого большого счастья» – работы.
Центральные для мировоззренческой системы писателя идеи личной активности, ответственности и самопожертвования сближают его творчество с идеалами почвенников. Представители этого литературно – общественного направления, сложившегося в России в 60 – е годы XIX века (Ап. Григорьев, Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский), считали, что в условиях её социально – культурного развития необходимо опираться на национальную традицию, народную почву. Единение сословий, по их мнению, было необходимым условием духовного и социального развития России, так же, как сохранение патриархальности русского крестьянства и деревни. Народоцентризм убеждений почвенников оказался близок всем авторам деревенской прозы, к числу которых относили и Фёдора Абрамова. Идеи объединения интеллигенции и народа как двух частей одной нации он планировал развить в романе «Чистая книга», закончить который ему не удалось.
О «почвенности» своего творчества, о его истоках и основе Ф. Абрамов, вышедший из северорусской глубинки, высказывался неоднократно: «Всеми своими корнями как писатель я связан, конечно, с пинежской землей <…> Пинега – это моя почва»19. О деревне писатель говорил как об основе всей русской культуры. Более того, ее исчезновение, перерождение в агрогород или агрокомплекс, по его мнению, могло привести к непоправимым результатам: «Деревня русская – это ландшафты, наша Родина, мать и прародина всего <…> утрата связей человека с животными, с землей, с природой может обернуться очень серьезными последствиями <…> непредвиденным изменением национального характера» (с. 97). При этом писатель был далек от идеализации традиционного крестьянского уклада. Еще в конце 70 – х годов ХХ века он говорил о том, что «тяжелый крестьянский труд с его мозолями и потом ушел в прошлое, он все шире оснащается умной, могучей техникой. В прежнем понимании крестьян нынче нет»20. Именно в жизни крестьян, чтивших нравственные законы, в людях «святого племени», самым большим грехом считавших «не работать», он видел источник нравственных и духовных сил нации.
Почвенническая идея славянофилов о мессианской роли России и русского народа, заключавшаяся в духовном спасении других народов, установлении всемирного братства, по – своему были восприняты Ф. А. Абрамовым. Автостереотипы (представление этноса о себе) и гетеростереотипы (представление этноса о других этносах) как формы национальной идентичности в сознании писателя сложились в антонимичную форму «мы» – «они»: «Нам мало, чтобы были решены наши русские вопросы. Нам непременно надо, чтобы у соседа было хорошо, – писал он. – Мы поборники и носители всемирного братства <…> Вносить вечное беспокойство и неудовлетворенность в души других народов <…> Судьба России – давать свет человечеству. Главная статья ее экспорта – духовный хлеб, духовные ценности» (с. 746). Эти мысли окончательно укоренились в нем после поездок за границу (Францию, Германию, Америку) в 1976–1978 годах, где наряду с порядком, комфортом и чистотой его поразили духовная ограниченность, «материализм» и «индивидуализм» человеческих отношений.
Русская идея, связанная с осмыслением своеобразия национального характера, преодолением человеческой разобщенности, Ф. А. Абрамову была очень близка. О стремлении понять русскую душу он писал в своих дневниках, в которых записи разных лет говорят о том, что глубинные пласты народной жизни, культуры, противоречия национального характера были постоянным предметом его раздумий: «Многое в жизни любой нации объясняется особенностями национального характера, в нем таятся как взлеты, так и провалы истории <…> Русский характер очень красив, живописен, дает благодатный материал для литературы <…> в нем нередко уживаются самые полярные тенденции. Он так же многообразен, как, скажем, многообразна и географически, и климатически наша страна» (с. 318).
В самом крупном произведении писателя, тетралогии «Братья и сестры» (1958–1978), отчетливо выделяются два типа героя: Егорша – «человек вольный», воплощающий национальный характер в его стихийно – бунтарской природе, и Михаил – «человек земли», «человек совестливый»21. Егорше многое в жизни удается: он был ударником на сплаве, потом трактористом – передовиком, личным водителем секретаря райкома. Желание «выбиться» в люди, получив «должность», избавиться от тяжелой крестьянской, по колено в земле, жизнью заставляет его разорвать семейные и дружеские связи и уехать из родного села. «Егорша и артист, и балагур, в нем и широта, и удаль русская», – писал в заметках к образу этого персонажа Ф. А. Абрамов (с. 319). Для художника важен был герой, наделенный чувством «хозяина земли», справедливости и ответственности за происходящее вокруг, – Михаил Пряслин. «Главный – то дом человек в душе у себя строит», – говорит о нем один из персонажей. В этих словах заключен не только пафос последнего романа тетралогии, но и суть мировосприятия самого Абрамова: «Пока мы сами, каждый из нас не поймет <…> что все дела – это мои дела, и что большой наш дом строится только общими усилиями <…> до тех пор мы ничего не изменим»22.
В этом горячем призыве – два смысловых узла, определявших мировоззрение послевоенного писательского поколения: установка на обязательные перемены и высочайшее чувство личной ответственности за общее будущее. Первые отклики на этот запрос предложила традиционная проза, открытием которой во многих отношениях стал абрамовский роман «Братья и сестры».
Традиционная проза II половины XX века как воплощение абрамовской концепции
Рождение русской традиционной прозы во второй половине двадцатого века – событие во многих отношениях уникальное, потому и вызвавшее мощную научную рефлексию, в начале нового столетия зафиксированную в актуализации двух терминов «традиционная проза» и «традиционалистская проза» (Л. В. Соколова, Н. В. Ковтун и др.). Иногда исследователи используют эти терминологические словосочетания как синонимичные, хотя даже их смысловая структура противится такому положению вещей. Несущие основную смысловую нагрузку прилагательные абсолютными синонимами не являются. Определение «традиционная» образовано от существительного «традиция». Соответственно, «традиционная» литература – это литература, основанная на традиции, возникшая и осуществляющаяся под влиянием традиции, освещенная традицией (см. многочисленные современные толково – словообразовательные словари, в том числе наиболее популярные Т. Ф. Ефремовой, А. Н. Тихонова). Прилагательные «традиционалистский», «традиционалистический» соотносятся с существительным «традиционализм», то есть традиционалистский – свойственный традиционализму, характерный для него. В данном случае принципиально важно, что традиционализм предполагает теоретическое оформление определенных идеалов, не менее определенной системы ценностей, которые могут складываться стихийно или культивироваться целенаправленно (рефлективный традиционализм, по Аверинцеву; идеологический, по Шилзу), но обязательно концептуализируются в научном дискурсе.
История традиционализма сложна и не имеет непосредственного отношения к предмету нашего исследования. Для нас при мотивации терминологических предпочтений важен только один момент. Если мы говорим «традиционалистская проза», мы должны отдавать себе отчет в том, что собрание текстов, подпадающих под это определение, должно было формироваться под влиянием рациональной, в той или иной степени отрефлексированной в гуманитарной мысли установки. В отношении к двадцатому веку, наверное, это должна быть установка на противостояние по отношению к принципам либерального гуманизма. Но бесспорно, «традиционалистская проза» должна иметь доктринальное происхождение либо подчинение.
Именно поэтому, с нашей точки зрения, к «традиционалистской» литературной парадигме второй половины ХХ века не может быть отнесена проза «военная», «городская», художественная философия которых формировалась в живом, естественном, практически не отрефлексированном до сих пор взаимодействии с литературной традицией. Даже при описании прозы «деревенской» использование этого термина представляется нам весьма спорным. Напомним о программной для этого литературного течения статье Ф. А. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе» (1954) или о распутинском понимании традиционализма, предложенном в ответном слове на церемонии вручения премии Солженицына: «Все крупное, глубокое, талантливое в литературе любого народа по своему нравственному выбору было неизбежно консервативным…», – говорил В. Распутин. В качестве аргумента писатель привел высказывание американского классика, романиста У. Фолкнера, советовавшего молодым литераторам «выкинуть из своей мастерской все, кроме старых идеалов человеческого сердца – любви и чести, жалости и гордости, сострадания и жертвенности, отсутствие которых выхолащивает и убивает литературу»23. Ясно, что писатель говорит о художественной трансляции сердечных привязанностей, почти интуитивном усвоении консервативного пафоса мировой литературной классики, а не о доктринальных ограничениях литературного творчества.
По большому счету, в новейшей истории русской литературы развивалась, обогащалась классическая установка на актуализацию в литературном развитии принципа преемственности, ориентирующего «в конечном счете на новое как развитие и продолжение старого»24. Во второй половине прошлого столетия ориентация на литературную традицию предполагала избирательно – творческое отношение к словесно – художественному опыту, не исключающее приумножение ценностей, составляющих достояние народа и общества. В одном из литературно – критических обзоров известного белорусского литератора (документалиста, прозаика, критика) А. Адамовича был яркий образ, иллюстрирующий непреложность закона преемственности для литературного процесса: «Интересно происходит в литературе: движение вперед через видимость как бы возвращения к прежнему. Это напоминает сильную накатывающуюся волну у морского берега: в ней два одновременных движения – несущее вперед и отбрасывающее назад, в море…
Но такое движение – вперед с одновременным возвращением назад, в "море" великой литературной традиции человечества, – есть, может быть, сама форма существования искусства, которое, чтобы не повторяться, не омертветь, должно все время искать, уходить вперед от самого себя, но и возвращаться с такой же неизбежностью к той пограничной черте, где искусство не то начинается, не то кончается. А "за черту" выносится гниющий мусор ложных попыток, ходов, заблуждений – все, что так и не стало искусством»25.
Понимание традиционности, выраженное в приведенной выше метафоре, вполне соответствует дефиниции термина «традиция», предложенной в двадцатом веке: «Традиция образует определенное смысловое пространство, которое включает зоны как мало формализуемые, не отображаемые до конца на знаковом уровне, так и зоны, совсем не формализуемые. Обладая, с одной стороны, указанным набором артикулируемых сем и образов, традиция другой своей стороной (наиболее существенной) обращена к сложным комплексам народных представлений, которые существуют латентно и не всегда выступают на уровне сознания, являясь достоянием подсознательного и бессознательного» (определение Г. И. Мальцева).
Если учесть все эти обстоятельства, то придется признать, легитимность термина «традиционная литература» по отношению к историко – литературной парадигме, объединяющей произведения, в которых содержательно воплощается основа, исторический опыт родной культуры, с достаточной очевидностью проявляется сбалансированность идеи, психологии персонажей, сюжета с топикой, поэтикой, стилистикой, как это было в прозе Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского.
Традиционность в формальной сфере, в сфере поэтики и стилистики заключается в сосредоточенности на содержательно обусловленном, оправданном развитии классической жанровой системы; в особенностях топики – хронотопа прежде всего, подчиненного реальному времени и пространству и реальному историческому человеку, раскрывающемуся в них; в сложнейшей и аксиологически выверенной мотивной структуре сюжетов; в наследовании принципов психологизма, позволивших создать образ «простого человека» во всей его сложности и противоречивости как истинное, действительное воплощение достоинств и недостатков национального характера; наконец, в обновлении литературного языка, усиливающем его изобразительно – выразительные возможности за счет возвращения классической чистоты и ясности, мифологической объемности и глубины слова.
Содержательно традиционная проза унаследовала пушкинскую «капиллярную чувствительность» (выражение В. Распутина), позволяющую открывать новые, заповедные миры, воплотить бытийную идентичность, исторический опыт родной культуры, который, по Лихачеву, характеризуется тремя основными признаками:
– соборность как «проявление склонности к общественному и духовному началу»;
– национальная терпимость как «универсализм и прямая тяга к другим национальным культурам»;
– стремление народа к свободе, человека – к воле, исторически выражающееся, в первую очередь, в уходах крестьян от власти государя в казачество, за Урал, в дремучие леса севера; в желании следовать вековым законам «хорошо организованного земледельческого быта крестьянства»; в сознательном сбережении главного условия общественной слитности – «простейшей и наиболее сильной ячейки семьи»26. Кроме того, художественная концепция бытия, предлагаемая традиционалистами, фиксирующая цели и условия гармоничного существования человека, учитывает и содержание, специфику ответов на общечеловеческие первовопросы: как и ради чего жить? в чем заключается сокровенный смысл человеческого существования? насколько безысходна судьба человека? Ответы на эти вопросы напрямую зависят от эсхатологических воззрений нации и эпохи, на которых в той или иной степени базируются все отрасли духовного производства, литература в том числе, традиционная литература в первую очередь.
Повторяем, с нашей точки зрения, в послевоенный период включенность без концептуальной ограниченности в данную литературную парадигму на разном жизненном материале, в разной художественной форме, с разными смысловыми доминантами демонстрировали три основных тематических направления: «военная», «деревенская» и «городская» проза. К лидерам примыкали создатели произведений на исторические темы и открыватели «лагерной» проблематики.
Историко – литературное, историко – культурное значение каждого из этих направлений переоценить очень трудно. И все же, известный прозаик, публицист, главный редактор журнала «Новый мир» на протяжении почти всего самого трудного для русской культуры последнего десятилетия С. П. Залыгин, размышляя над литературными итогами двадцатого столетия, центральным литературным событием эпохи назвал «деревенскую прозу». Основанием для столь высокой оценки патриарх определил именно традиционность этого литературного течения, благодаря которому «русские классики могут спать теперь если уж не спокойно, так, во всяком случае, спокойнее: в стране не отвергли их завещания, их духа – они были продолжены»27. Г. Шленская, много лет дружившая с В. Астафьевым, старавшаяся записывать наиболее значительные беседы с ним, утверждает, что для лидера «деревенщиков» следование традиции прежде всего предполагало высочайшую ответственность художника перед великой русской классикой: «В литературе русской не должно быть никакого баловства, никакой самодеятельности, нет у нас на это права. За нашей спиной стоит такая блистательная литература, возвышаются такие титаны, что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя хоть бы на день или час, обязан крепко подумать над тем, какие у него есть на это основания»28.
В сегодняшней литературной ситуации такого рода утверждения уже не подлежат отрицательно оценочной интерпретации. Но звучали эти признания в те времена, когда литературное пространство, как тогда казалось, навечно было отвоевано постмодернистами. И для того, чтобы числится «деревенщиком» или традиционалистом, нужно было, если хотите, определенное мужество. Базовую, предельно условную номинацию даже почитатели «деревенской» литературы считали компрометирующей, снижающей. Авторитетных критиков и литературоведов не устраивала главным образом «принижающая», «убивающая интерес к явлению» семантика29 «ярлыка».
Сегодня «деревенская проза» медленно восстанавливается в своих правах. Уникальность «деревенской прозы» связывается со сложным совмещением актуальности, даже злободневности проблематики с предельно материализованной включенностью в классическую традицию, заданной отнюдь не событийной стороной сюжетов, но особым ощущением жизни, забытыми под давлением цивилизационных процессов представлениями о времени и пространстве, о человеке, его жизни и смерти. Ясно, что под какими бы терминологическими «шапками» не объединяли «деревенщиков» (например, Е. Вертлиб относит их к «онтологическим» (1992), А. Архангельский – к «метафизическим» (1992), А. Большакова – к «символическим» реалистам (2002, 2004), Л. Соколова – к традиционалистам (2005), Н. Ковтун – к утопистам (2005)), все они обладают теми качествами, соответствуют тем требованиям, которые параллельно с теоретическими, литературоведческими изысканиями одним из первых реализовал в собственной художественной практике Ф. Абрамов. Все они в самом полном и абсолютном соответствии с классической традицией писали и пишут для своего народа, чтобы помочь ему «понять свои силы и слабости». Наиболее важной задачей искусства признавали и признают просвещение. Высшей его целью – «правду и человечность, так сказать, увеличение добра на Земле. И красоты»30.
Трудно поверить, что каталогизированные в начале 1980 – х Ф. Абрамовым претензии критиков и читателей к этому литературному направлению, обсуждались серьезно: «просмотрели научно – техническую революцию», «целину прохлопали», «вместо современности – заскорузлая патриархальщина», «язык засоряют диалектизмами и всяким иным словесным мусором»31. Самым значительными обвинениями отчетливо социологизированной советской критики 1960–1980 – х годов были обвинения, направленные против центральных персонажей нашумевших произведений В. Лихоносова, В. Солоухина, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина, В. Астафьева. Этими персонажами были обычные сельские жители, часто старики и старухи, в поведении, мировоззрении, мироощущении которых, с точки зрения пристрастных читателей, воплощался ошибочный, нежизненный, давно устаревший, несвоевременный идеал. Так, например, Ф. Левин с искренним, почти наивным недоумением вопрошал: как можно «почитать» этих «малограмотных» стариков за «высший эталон морали и мудрости»? как можно обращаться за советом к деревенской бабушке в атомный век32. В газете «Русский север» была опубликована статья В. Есипова, завершавшаяся возмущенным возгласом: «Наши писатели, как известно, очень гордятся своим крестьянским происхождением, близостью к народу. Когда это отражается в творчестве, в полноценном словесном искусстве – честь им и хвала. Но можно ли подходить к общечеловеческим моральным проблемам с мерками, прямо скажем, мужическими? (выд. нами. – Н. Ц.)»33.
Теперь же все чаще пишут о том, что созданные деревенщиками «праведники», «чудики» эпохальны. Их появление – сокрушительнейший удар не только по экономической системе или по «теории бесконфликтности». Но только в 1989 году внимательный и беспристрастный в отношении к этому литературному материалу свидетель, известный петербургский прозаик Валерий Попов, представляя ретроспективу общественно – литературного развития в послевоенную эпоху, пожалуй, первым написал о появлении «деревенщиков» на литературной сцене как событии особого рода и связал его исключительность и значимость с возникновением принципиально нового героя, обладавшего исключительными возможностями и характеристиками: «<….> на поверхность литературы вышли самые у нас бесправные люди – в книгах Шукшина и Белова, – молчавшие десятилетия, поэтому их голоса звучали весомее»34. Не так давно было опубликовано горячее признание Ф. Абрамова: «Я не стою коленопреклонённым перед народом, перед так называемым "простым народом" <…> Кадение народу, беспрерывное славословие в его адрес – важнейшее зло. Оно усыпляет народ, разлагает его»35.
Сражаться за своего героя создателям «деревенской прозы» приходилось на два фронта: с литературно – критическим официозом и с тогдашними либералами. Либералы отказывали во внимании мужику по двум причинам. Первая из них проявлена в дневниковой записи Ф. Абрамова, зафиксировавшей взволновавшее темпераментного литератора высказывание товарища, однокашника, впоследствии известнейшего ленинградского – петербургского культуролога: «В основе всего у Микки – эгоизм, чудовищный эгоизм <…> Мерзавец, даже возмущался, что у нас слишком много пишут о деревне, о мужике. "Не так – то уж они плохо живут, как расписывают разные сочувствователи"»36. Вторая со всей очевидностью проявилась во время дискуссии о влиянии века науки и техники на человека, которую осенью 1959 года провела «Комсомольская правда». Понятно, что противостояние такого рода было значительнее серьезнее, чем публичные выступления против наскучивших к тому времени почти всем своими унылыми нотациями ортодоксов соцреализма.







