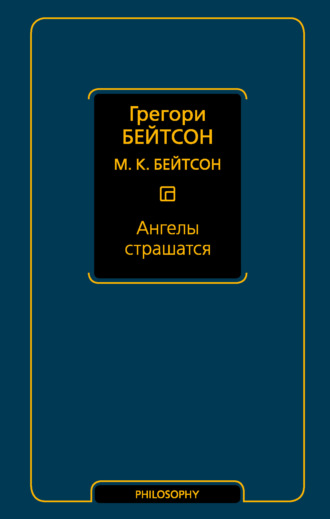
Мэри Кэтерин Бейтсон
Ангелы страшатся
Блаженный Августин был не только богословом, но и математиком. Он жил в городе Гиппо Региус в Северной Африке[15] и был, вероятно, скорее семитом, чем индоевропейцем, что в данном контексте означает, что он был в прекрасных отношениях с алгебраической мыслью. Как я понимаю, именно арабы привнесли в математику понятие «любой», таким образом создав алгебру, которую мы по-прежнему называем арабским словом «аль-джебр».
Эти истины были довольно простыми утверждениями, и здесь я обычно цитирую Уоррена Мак-Каллока (McCulloch, 1965), которому я многим обязан:
Услышьте громоподобный голос этого святого, доносящийся до нас из пятого века: «7 и 3 равно 10; 7 и 3 всегда было равно 10; никак и никогда 7 и 3 не было ничем, кроме 10; 7 и 3 всегда будет равно 10. Я заявляю, что эти нерушимые истины арифметики обязательны для всех, кто рассуждает».
Вечные истины Блаженного Августина были сформулированы прямо и грубо, но я думаю, он согласился бы и с более современными версиями. Например, такой: уравнение X + Y = Z разрешимо и однозначно разрешимо (есть только одно решение) для любых значений X и Y, при условии, что имеется согласие в отношении всех шагов и операций. Если «количественные величины» соответствующе определены и если «операция сложения» соответствующе определена, то уравнение X + Y = Z будет однозначно разрешимо. И Z будет иметь ту же природу, что и X и Y.
Однако насколько же велика дистанция от прямого заявления «7 + 3 = 10» до наших осторожных обобщений, подстрахованных определениями и условиями! В определенном смысле мы перетянули арифметику на другую сторону линии, отделяющей Креатуру от Плеромы. Это утверждение больше не имеет привкуса обнаженной истины и выглядит как артефакт, продукт человеческой мысли, причем мысли конкретных людей из конкретной эпохи и культуры.
Значит ли это, что Вечные истины Блаженного Августина – это только сопутствующие продукты специфических идей или обычаев, взращиваемых в различные эпохи в различных культурных системах?
Я антрополог и по профессии, и по образованию, и идея культурного релятивизма – часть антропологической ортодоксии. Однако насколько далеко может заходить культурный релятивизм? Что сторонник культурного релятивизма может сказать о вечных истинах? Не уходит ли арифметика корнями в неизменный скальный грунт Плеромы? И как вообще можно говорить о таких вещах?
Есть ли вообще такой предмет исследования, как Эпистемология, – с большой буквы «Э»? Или все сводится к локальным и даже личным эпистемологиям, любая из которых так же хороша и так же верна, как и любая другая?
Вопросы такого рода возникают при попытке рассмотрения интерфейса между Плеромой и Креатурой, и ясно, что арифметика располагается очень близко к этой границе.
Эти вопросы не следует отвергать как «абстрактные» или «интеллектуальные», и потому лишенные содержания. Эти абстрактные вопросы ведут нас к вещам, напрямую затрагивающим людей. Вопросы какого рода мы задаем, когда спрашиваем: «Что такое ересь?» или «Что такое таинство?» Это глубоко человеческие вопросы. Для миллионов людей это вопросы жизни и смерти, здравомыслия и безумия, и ответы на них (если они вообще есть) скрыты в парадоксах, порождаемых границей между Креатурой и Плеромой, той линией, которую гностики, Юнг и я ставят на место картезианского разделения разума и материи. Эта линия поистине является мостом или путем прохождения сообщений.
Возможно ли заблуждаться на уровне Эпистемологии? Заблуждаться в самых основах мышления? Христиане, мусульмане, марксисты (и многие биологи) говорят «да». Они называют такие ошибки «ересью» и приравнивают их к духовной смерти. Другие религии: индуизм, буддизм, прочие откровенно плюралистические религии словно не знают этой проблемы. Возможность Эпистемологической ошибки не знакома их эпистемологиям. В нынешней Америке практически ересью считается мнение, что основания мышления имеют какое-то значение; считается, что подвергать людей анафеме за эпистемологические ошибки – недемократично. Если религии имеют отношение к Эпистемологии, то как объяснить тот факт, что в некоторых понятие «ересь» есть, а в некоторых – нет?
Я думаю, что эта история уходит в глубь времен к самой изощренной религии из всех известных – к пифагорейству. Как и Блаженный Августин, пифагорейцы знали, что некоторые из корней Истины (не все) находятся в нумерологии, в числах. История эта довольно неясная, вероятно потому, что нам трудно увидеть мир глазами пифагорейцев. Произошло, как будто, следующее: египетская математика была чистой арифметикой, всегда конкретной, так и не сделавшей скачка от «7 + 3 = 10» к «X + Y = Z». В их математике не было ни дедукции, ни доказательств в нашем понимании. У греков доказательства появились примерно в V в. до н. э., однако простая дедукция была не более чем игрушкой до открытия доказательства невозможности методом reductio ad absurdum. У пифагорейцев был ряд теорем (в наше время в школе их не проходят) об отношениях четных и нечетных чисел. Высшей точкой этого ряда было доказательство, что гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника с единичными катетами несоизмерима, то есть что √2 не может быть выражен отношением никаких целых чисел, или же что не существует рациональной дроби, квадрат которой был бы равен 2[16].
Это открытие произвело на пифагорейцев ошеломляющее впечатление и стало их центральной тайной (но почему тайной?), эзотерической доктриной их религии[17]. Их религия была основана на дискретности последовательности музыкальных гармоник, что демонстрировало, что дискретность, несомненно, реальна и прочно обоснована строгой дедукцией.
А теперь они столкнулись с доказательством несуществования. Дедукция привела в пустоту.
Как эту историю вижу я, с этого момента нельзя было не «верить», не «видеть» и не «знать», что противоречия между общими положениями высокого уровня всегда ведут к умственному хаосу. С этого момента понятие о ереси (представление, что Эпистемологическая ошибка может быть смертоносной) стало неизбежным.
Весь этот пот, слезы и даже кровь были пролиты по поводу весьма абстрактных утверждений, Истинность которых, как кажется, в известном смысле лежит вне человеческого разума.
Как кажется мне, утверждения, интересовавшие Блаженного Августина и Пифагора и которые Августин назвал Вечными истинами, в известном смысле скрыты в Плероме и только ждут, пока какой-то ученый их обозначит. Если, например, человек пересыпает чечевицу или частицы песка из одного сосуда в другой, он не пересчитывает эти частицы, однако внутри массы этих частиц по-прежнему верно, что «7 песчинок + 3 песчинки = 10 песчинок». Или же непременно станет верным, если кто-то внедрится туда и посчитает (возможно, это мог бы сделать для нас призрак епископа Беркли[18], дабы убедиться, что истина неизменна, есть там мы или нет).
В этом смысле в Плероме есть множество безымянных закономерностей, готовых быть обнаруженными. Однако в отсутствие организмов, для которых различия небезразличны, некому провести разграничения и различия, нужные для анализа. (Епископ Беркли забыл о траве и белках в лесу, для которых звук падающего дерева небезразличен и наделен смыслом.)
Я хочу предельно прояснить контраст между закономерностями Плеромы и закономерностями, существующими внутри ментальных и органических систем, а именно неизбежными ограничениями и паттернами ментального процесса, например кодированием и логической типизацией.
Знаменитый двойной вопрос Уоррена Мак-Каллока «Что есть число, коль скоро человек может его знать, и что есть человек, коль скоро он может знать число?» (McCulloch, 1965) приобретает совершенно другую окраску и порождает новые трудности, если мы заменим совершенно безличное понятие «числа» на некую архетипическую сущность. Юнговские архетипы претендуют на то, что могут выходить за границы локальных понятий, однако они категорически принадлежат к Креатуре.
Что есть отец, коль скоро мужчина, женщина или ребенок могут его знать, и что есть мужчина, женщина или ребенок, коль скоро они могут знать отца?
Позвольте мне предложить вам пример, который в полевой антропологии мы назвали бы аборигенным текстом. Это – ключевое положение некоторой культуры:
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое».
В этом отрывке скрыто столько эпистемологии, что разбираться с ней можно очень долго.
Сами эти слова благословлены – «святятся», используя их собственное выражение, – евангельским рассказом, согласно которому Иисус порекомендовал своим ученикам повторять эту молитву несчетное число раз (Матф. 6:9). В любой христианской службе эти слова странным образом предстают твердым основанием, на котором стоит вся структура. Эти слова – как знакомая тема, к которой ритуал постоянно возвращается не как к логической предпосылке, а, скорее, как музыка возвращается к исходной теме или фразе.
И если квазиплероматические истины Блаженного Августина и Пифагора имеют корни в логике или математике, здесь нам надо поискать что-то другое.
Отче наш…
Это – язык метафоры, причем язык очень странный.
Для начала нам понадобятся какие-то контрастирующие данные, чтобы показать, что мы находимся в сфере эпистемологии с маленькой буквы «э». (Если вам хочется поискать абсолютную Эпистемологию среди метафор, то вам придется подняться на уровень или даже два выше…)
Когда на Бали шаман, называемый балиан, входит в состояние измененного сознания, он (или она) говорит голосом бога, выражаясь так, как это приличествует богу. И когда этот голос обращается к обычным взрослым смертным, он называет их «папа» или «мама». Ведь балийцы представляют себе отношения между богами и людьми как отношения между детьми и родителями, причем в этих отношениях боги – это дети, а люди – родители.
Балийцы не ожидают от своих богов ответственности. Они не чувствуют себя обманутыми, если боги капризничают. Напротив, они радуются небольшим капризам и чарам, которые демонстрируют боги, временно воплощенные в шаманах. Как это непохоже на нашего дорогого библейского Иова!
Таким образом, специфическая метафорическая связь отцовства и божественности отнюдь не является непреложной или универсальной. Другими словами, «логика» метафоры – это нечто совершенно другое, нежели логика истин Блаженного Августина и Пифагора. Поймите, она не «ложна», а нечто совершенно другое. [Однако может быть так, что хотя частные метафоры имеют локальное значение, сам процесс создания метафор имеет более широкий смысл и – более того: может быть базовой характеристикой Креатуры.]
Я хочу заострить контраст между истиной метафоры и истиной математиков, которую они преследуют довольно жестокими и бесчеловечными средствами. Позвольте мне для ясности изложить метафору в форме силлогизма. Классическая логика выделила и дала названия ряду силлогизмов, из которых наиболее известен «силлогизм в модусе Barbara»[19]. Он выглядит следующим образом:
Люди смертны.
Сократ человек.
Сократ смертен.
Базовая структура этого маленького чудовища, его скелет, строится на классификации. Сократу присваивается предикат «смертности» при помощи его идентификации как члена класса, все члены которого разделяют этот предикат.
Силлогизм метафоры выглядит совсем по-другому:
Люди смертны.
Трава смертна.
Люди – это трава.
[Чтобы говорить о силлогизмах такого вида и сравнивать их с «силлогизмом модуса Barbara», мы назовем его «силлогизмом “в модусе травы”».] Неудивительно, что преподаватели классической логики весьма неодобрительно относятся к такому виду аргументации и называют его «предрешением основания» (affirming the consequent)[20]. Такой педантизм совершенно оправдан, если на самом деле осуждается путаница в видах силлогизмов. Однако бороться со всеми силлогизмами «в модусе травы» было бы глупо, поскольку эти силлогизмы есть именно тот материал, из которого состоит естествознание. Мы постоянно встречаем их, когда ищем закономерности в биологическом мире.
Голландский психиатр Эйлхард фон Домарус когда-то заметил (von Domarus, 1944), что шизофреники, как правило, говорят и действуют на языке силлогизмов «в модусе травы». Я думаю, он также не одобрял такой способ организации знания и жизни. Если я правильно помню, он не заметил, что поэзия, искусство, сновидения, юмор и религия разделяют с шизофренией эту тягу к силлогизмам «в модусе травы».
Однако нравятся вам поэзия, сновидения, психоз или нет, в общем и целом верно, что биологические данные обретают смысл и взаимосвязь через силлогизмы «в модусе травы». Вся сфера поведения животных, вся анатомия повторяющихся форм, вся биологическая эволюция – любая из этих огромных областей внутри самой себя скрепляется воедино силлогизмами «в модусе травы», нравится это логикам или нет[21].
На самом деле все очень просто: чтобы строить силлогизмы модуса Barbara, вы должны иметь идентифицированные классы, должны иметь возможность отделить предикаты от субъектов. Однако вне языка нет ни поименованных классов, ни субъект-предикатных отношений. Следовательно, силлогизмы «в модусе травы» должны быть доминирующим видом сообщения о взаимосвязи идей в любых довербальных областях.
Я думаю, первым, кто это ясно понял, был Гёте. Он заметил, что если вы рассмотрите капусту и дуб, два довольно разных организма, однако оба – цветущие растения, вы обнаружите, что способ говорить об их сходстве отличается от общепринятой манеры выражаться. Ведь мы говорим так, словно Креатура – это Плерома, мы говорим о «вещах», в данном случае о листьях или стеблях, и пытаемся их определить. Но Гёте обнаружил, что «лист» определяется тем, что растет на стебле и имеет почку в своей пазухе (угле, образованном листом и участком стебля, к которому лист прикреплен). А то, что выходит из этой пазухи (из этой почки) – это снова стебель. Правильные единицы описания – это не лист и стебель, а отношения между ними.
Эти соответствия позволяют вам взять другое цветущее растение, например картофель, и понять, что часть, которую вы едите, в действительности соответствует стеблю.
Сходным образом всех нас учили в школе, что существительное – это имя лица, места или вещи. Но лучше бы нас учили, что существительное может находиться в определенных отношениях с другими членами предложения. Тогда вся грамматика определялась бы на языке отношений, а не на языке вещей. Эта поименовательная деятельность, которой другие виды организмов скорее всего не увлекаются, фактически является плероматизацией живого мира. И заметьте, что грамматические отношения подобны отношениям довербальной поры. Фразы «корабль наткнулся на риф» и «я отшлепал свою дочь» связаны грамматической аналогией.
Я как-то видел в зоопарке Брукфилда в Чикаго небольшую стаю волков. Десять из них целыми днями спят, а одиннадцатый, доминантный самец, деловито бегает кругами, следя за порядком. Когда волки приходят с охоты, они отрыгивают пищу для щенков, остававшихся дома. Щенки могут подавать взрослым сигнал, требующий отрыгнуть пищу. Однако в конце концов взрослые волки отучают их от отрыгнутой пищи: они открытой пастью прижимают загривки щенков вниз. У домашних собак самки тем же способом отучают щенков от молока. В Чикаго мне рассказали, что в прошлом году одному молодому волку удалось совокупиться с самкой. К ним бросился вожак, альфа-самец. Однако кровопролития не произошло: вожак лишь прижал голову молодого самца к земле четыре раза, а затем ушел. Это была метафорическая коммуникация: «Ах ты щенок этакий!» Сообщение молодому волку о правилах поведения основывалось на силлогизме «в модусе травы».
Однако давайте вернемся к Иисусовой молитве:
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.
Разумеется, мое утверждение, что любая довербальная и невербальная коммуникация зависит от метафор и/или силлогизмов «в модусе травы», не означает, что любая вербальная коммуникация является (или должна быть) логической и не-метафорической. Метафоры пронизывают собой всю Креатуру, поэтому любая вербальная коммуникация неизбежно содержит метафоры. Когда метафора облечена в слова, она дополнительно получает те свойства, на которые способна вербальность: возможность простого отрицания (на довербальном уровне «не» отсутствует); возможность классификации; возможность отделения предиката от субъекта; возможность эксплицитной маркировки контекста.
И наконец – возможность с помощью слов совершить прыжок от метафорической и поэтической модальности к сравнению. То, что Вайхингер (Vaihinger) называет «коммуникация в модальности как если бы» становится чем-то другим, когда это «как если бы» присутствует в явном виде. Попросту говоря, такая коммуникация становится прозой, и тогда надо точно соблюдать все ограничения, предписываемые силлогизмами, которые так любят логики.
Иисусова молитва могла бы тогда иметь следующий вид:
Да будет так, как если бы был ты или что-то эдакое, живое и обладающее личностью. Если это так, возможно, было бы уместно обратиться к тебе в словах.
Поэтому, хотя ты и не мой родственник (ведь ты только как если бы существуешь), и пребываешь, так сказать, в другой плоскости (на небесах)… и т. д. и т. п.
И как мы знаем из культурной антропологии, творческая сила человеческого разума способна и на такие крайности. Что самое удивительное, сама такая крайность может стать религией – например, среди бихевиористов. Используя ныне модную метафору, правое полушарие может аплодировать прозаической, осторожной логике левого и черпать в ней утешение.
Акт перевода – из «модуса травы» в модус Barbara, из метафоры в сравнение, из поэзии в прозу – сам может стать таинством, священной метафорой для определенной религиозной позиции. Войска Кромвеля носились по всей Англии, отбивая статуям в церквях носы, головы и гениталии в порыве религиозного рвения. Чем одновременно подчеркивали свое полное непонимание связи метафорического и священного.
Я много раз говорил, что протестантское истолкование слов «это моя Плоть, это моя Кровь» заменяет их на что-то вроде «это символизирует мою Плоть, это символизирует мою Кровь»[22]. Такое истолкование изгнало из [протестантской. – Примеч. пер.] Церкви ту часть разума, которая создает метафоры, поэзию и религию, то есть ту часть разума, которой как раз самое место в Церкви. Однако избавиться от нее нельзя. Нет сомнений, что своими актами вандализма, в ходе которых они отбивали метафорические гениталии как если бы они были «настоящими» в левополушарном смысле, войска Кромвеля творили свою собственную жуткую поэзию.
Какая путаница! Нельзя просто отвергнуть за ненужностью логику метафоры и силлогизм «в модусе травы». Ведь силлогизм модуса Barbara не мог иметь применения в биологическом мире до изобретения языка и отделения субъектов от предикатов. Другими словами, дело выглядит так, что вплоть до последних ста тысяч, максимум одного миллиона лет в мире не было силлогизмов модуса Barbara, а были только бейтсоновские, и все же организмы нормально существовали. Им удавалось так выстраивать себя в ходе собственного эмбрионального развития, чтобы иметь два глаза, по одному с каждой стороны носа. Им удалось так выстроить себя в ходе эволюции, что у лошади и человека есть общие предикаты, которые зоологи сегодня называют гомологии. Становится очевидным, что метафора – это не просто поэтический образ, не вполне ладящий с логикой. Это фактически та логика, на которой построен биологический мир. Это главная характеристика и скрепляющий клей того мира ментального процесса, набросок которого я попытался вам дать.
3. Металог: Зачем ты рассказываешь истории? (МКБ)
ДОЧЬ: Папа, почему ты так много говоришь о себе?
ОТЕЦ: Ты хочешь сказать, во время наших бесед? Мне так не кажется. Есть много вещей, касающихся меня, о которых я никогда не говорю.
ДОЧЬ: Это верно, но ты снова и снова рассказываешь все те же истории. Например, во Введении ты рассказал, как ты пришел к своей эпистемологии, а тут ты рассказал, как ходил в Чикаго в зоопарк. Я сто раз слышала, как ты ходил в зоопарк в Сан-Франциско смотреть на игру выдр, но ты никогда не рассказывал, с кем ты играл, когда был маленьким. У тебя в детстве был щенок, ты с ним играл? Как его звали?
ОТЕЦ: Не так быстро, Кэт. Этот вопрос останется без ответа. Но ты совершенно права в том, что даже когда я рассказываю истории из своего опыта, я говорю не о своей собственной истории. Эти истории про что-то другое. История с выдрами на самом деле про то, что для того, чтобы два организма могли играть, они должны быть способны посылать сигнал «это – игра». А это ведет к осознанию, что такой вид сигналов, как метакоммуникация (то есть сообщения о сообщениях), должен постоянно присутствовать в их коммуникации.
ДОЧЬ: Хорошо, но мы тоже два организма. И у нас та же проблема, о которой ты все время говоришь. Мы должны уяснить, играем мы, исследуем или что-то еще. И о чем мне говорит тот факт, что ты не говоришь о себе, когда ты был маленьким, и ты не говоришь о нас, когда я была маленькой. Ты хочешь говорить о выдрах. Которые в зоопарке.
ОТЕЦ: Но я не хочу говорить о выдрах, Кэт. Я не хочу говорить даже об игре. Я хочу поговорить про то, как они договариваются о том, что будут играть. Как это удается выдрам и как мы можем попробовать сделать то же.
ДОЧЬ: Разговор про разговор о разговоре. Ловко. Все превратилось в пример логических типов, один поверх другого. История с выдрами – это история о метасообщениях, а история, как ты рос в позитивистской семье, – это история об обучении. Ведь именно размышляя об обучении и обучении обучаться ты начал осознавать важность логических типов. Сообщения о сообщениях, обучение обучаться. Надо сказать, ты извлек из этого много выгоды, много прозрений, как никто другой. Даже несмотря на то, что ребята-логики говорят, что у них есть новые, усовершенствованные модели логических типов, которые ты не учитываешь.
Но папа, разве нельзя пойти сразу наверх этой стопки? Вряд ли ты можешь говорить про разговор о разговоре и при этом не говорить. Я имею в виду, говорить про что-то конкретное, что-то ощутимое и реальное. Если ты рассказываешь историю про игру, в которой я не участвовала, значит ли это, что мы не играем сейчас?
ОТЕЦ: Может, мы и играем, но здесь ты начинаешь наступать мне на пятки. Мы начинаем путаться. Мы должны разграничить логические типы слов внутри нашего разговора и общую структуру коммуникации, для которой вербальное общение – это только часть. Но в одном ты можешь быть уверена: никто не разговаривает о «чем-то ощутимом и реальном». Разговаривать можно только об идеях. Ни о свиньях, ни о кокосовых пальмах, ни о выдрах и ни о щенках. Только об идеях свиней и щенков.
ДОЧЬ: Знаешь, я однажды вела семинар в Линдисфарне в штате Колорадо, и Вендел Берри стал доказывать, что возможно непосредственное знание материального мира. Тут в комнату залетела летучая мышь и стала в страхе носиться кругами, словно кантовская Ding an sich, «вещь в себе». Я поймала ее чьей-то ковбойской шляпой и выпустила наружу. Вендел сказал: «Вот эта летучая мышь – часть реального мира, она на самом деле была здесь». Я сказала: «Да, однако идея этой летучей мыши по-прежнему носится здесь кругами, олицетворяя альтернативные эпистемологии, а также спор между мной и Венделом».
ОТЕЦ: Да, и нелишне вспомнить, что Вендел – поэт. Но верно и то, что поскольку мы все млекопитающие, в какие бы словесные игры мы ни играли, мы говорим об отношениях. Профессор X выходит к доске и читает студентам лекцию по высшей математике, но при этом постоянно говорит «доминирование, доминирование, доминирование». Выходит профессор Y и излагает тот же материал, но он говорит «забота, забота, забота», или даже «зависимость, зависимость», когда предлагает студентам следовать за своей аргументацией.
ДОЧЬ: Как та мяукающая кошка, о которой ты постоянно говоришь. Она говорит не «молоко, молоко», а «зависимость, зависимость». И нам лучше воздержаться от комментариев о национальности этих двух профессоров, верно?[23]
ОТЕЦ: Несносная девчонка. Еще интереснее то, что люди вроде Конрада Лоренца могут говорить о сообщениях об отношениях у гусей. И он превращается в гуся прямо у доски, движется и держится как гусь. И это гораздо более сложный, более ценный доклад о гусях, чем был у нас о выдрах.
ДОЧЬ: И в это же самое время он говорит аудитории о доминировании и всем прочем. Человек говорит про гуся, говорящего об отношениях, и это одновременно разговор про отношения этого человека с другими людьми… о боже! И все присутствующие должны притворяться, что этого не происходит.
ОТЕЦ: Ну, другие этологи весьма обижены на Лоренца. По их словам, все это какой-то обман.
ДОЧЬ: А что такое вообще обман?
ОТЕЦ: Хм-м… В разговоре «обманом» будет недопустимая подмена логических типов. Но я бы сказал, что для Лоренца допустимо двигаться как гусь или использовать эмпатию для изучения гусей. Такая манера двигаться – часть эмпатии. Но у меня та же проблема: люди говорят, что я обманываю, когда использую логику метафоры для разговора о биологическом мире. Они называют это «предрешение основания» (affirming the consequent)[24]. Им кажется, что тот, кто так делает, заслуживает трёпки. Но мне кажется, что это – единственный здравый способ говорить о биологическом мире, поскольку это способ, которым организован сам этот мир, мир Креатуры.
ДОЧЬ: Хм-м… Эмпатия. Метафора. Мне они кажутся похожими. Мне кажется, что называть эти вещи обманом, говорить, что они против правил, – это как путы во время ярмарочных гонок. Знаешь? – когда одна рука привязана сзади, или ноги в мешке.
ОТЕЦ: Именно так.
ДОЧЬ: Хорошо, папа, но я хочу вернуться к нашему предмету. Я хочу знать, зачем ты постоянно рассказываешь истории про себя. И большинство твоих историй про меня, в металогах и вообще, – неправда. Они просто выдумка. И вот теперь я сижу и выдумываю истории про тебя.
ОТЕЦ: Должна ли история произойти на самом деле, чтобы быть истинной? Лучше я скажу по-другому. Должна ли история произойти на самом деле, чтобы быть сообщением истины об отношениях или примером, иллюстрирующим идею? Большинство по-настоящему важных историй не про вещи, случившиеся на самом деле. Они верны в настоящем, а не в прошлом. Возьми миф про Кевембуанггу, убившего крокодила, который, как считают ятмулы, не давал вселенной выйти из состояния хаоса…[25]
ДОЧЬ: Нет, не надо про это. Я хочу лишь знать, зачем ты рассказываешь так много историй и почему они главным образом про тебя самого?
ОТЕЦ: Ну, я могу сказать, что только несколько историй в этой книге про меня, да и то лишь на первый взгляд. Но что касается того, зачем я рассказываю много историй, то вот тебе анекдот. У одного человека был компьютер, и однажды он спросил у него: «Как ты считаешь, ты когда-нибудь сможешь думать как человек?» Поскрипев и погудев, компьютер выдал лист бумаги, на котором было напечатано: «Это напоминает мне одну историю…»
ДОЧЬ: Значит, человеческие существа думают историями. Но может быть, обман в том, как ты используешь слово «история»? Сначала компьютер использует фразу, она используется как завязка для одной из историй… анекдот – это тоже история… и еще ты сказал, что миф про Кевембуанггу не о прошлом, а о чем-то другом. Так что такое на самом деле история? Есть ли другие виды историй, вроде шекспировских «проповедей текущих ручьев»?[26] А как насчет деревьев – они тоже думают историями? Может, они их рассказывают?
ОТЕЦ: Несомненно, так и есть. Дай мне на минутку ту раковину моллюска. Здесь у нас целый набор разных историй, причем очень красивых.
ДОЧЬ: Ты поэтому держишь ее на каминной полке?
ОТЕЦ: То, что ты видишь, – продукт миллионов шагов, последовательных видоизменений в последовательных поколениях генотипов, ДНК, всякого такого. Это одна история, поскольку раковина – это форма, эволюционировавшая в ходе такой последовательности шагов. И раковина – так же, как мы с тобой, – сделана из повторяющихся частей и повторений повторяющихся частей. Если ты посмотришь на человеческий позвоночный столб, который, кстати, весьма красив, ты увидишь, что там нет совершенно одинаковых позвонков, но каждый – это что-то вроде видоизменения предыдущего. Эта раковина – так называемая правосторонняя спираль, а спирали тоже красивы. Эту форму можно наращивать в одном направлении без изменения ее базовых пропорций. Таким образом, в раковине есть рассказ о ее индивидуальном росте, законсервированный в ее геометрической форме, а также история ее эволюции.
ДОЧЬ: Я знаю. Я как-то смотрела на «кошачий глаз»[27], увидела там спираль и догадалась, что это взялось от чего-то живого. Эта история уже вошла в один металог.
ОТЕЦ: Далее. У раковин есть выступы, которые не дают им кататься по дну океана, но у этой раковины они изношены и стерты. И это – следующая история.
ДОЧЬ: Ты сейчас упомянул позвоночный столб, а это значит, что истории роста и эволюции человека отражаются и в разговорах. Но даже если и не упоминать человеческое тело, эти вещи можно различить через некоторые общие паттерны. Это отчасти то, что я имела в виду много лет назад, когда сказала, что любой индивидуум – своя собственная центральная метафора. Раковина мне нравится потому, что она и похожа на меня, и совсем другая.
ОТЕЦ: Здравствуй, улитка. Вот я и рассказываю истории, и иногда в истории есть персонаж по имени Грегори, а иногда – нет. И часто бывает, что история про улитку или дерево – это также история обо мне, и одновременно о тебе. Но самые важные вещи случаются, если истории поставить рядом.
ДОЧЬ: Параллельные притчи?
ОТЕЦ: Тогда возникает тот класс историй, которые мы называем модельными. Как правило, они довольно схематичны. Как и притчи, приводимые религиозными наставниками, они существуют именно для того, чтобы помогать думать совсем о других вещах.
ДОЧЬ: Хорошо, но пока ты не перешел к моделям, я хочу отметить, что истории про улиток и деревья – это также истории о тебе и обо мне, во взаимосвязи. К историям, которых ты не рассказываешь, я восприимчива не менее, чем к тем, которые ты рассказываешь, и изо всех сил пытаюсь читать между строк. Ну а теперь ты можешь рассказать о моделях или даже историю про Кевембуанггу, если хочешь. Тут беспокоиться не о чем, я уже ее слышала.


