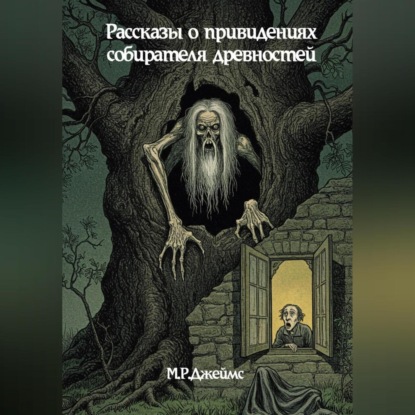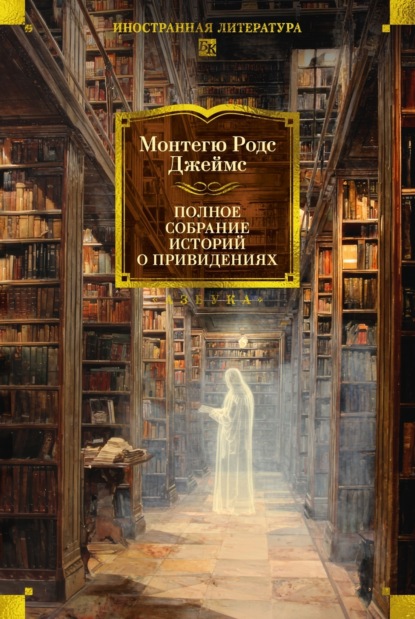Полная версия:
Монтегю Родс Джеймс Рассказы антиквария о привидениях
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Монтегю Родс Джеймс
Рассказы антиквария о привидениях
© Перевод. Е. Фрадкина, 2025
© Перевод. А. Курышева, 2025
© Перевод. Л. Брилова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *Рассказы антиквария о привидениях
Альбом каноника Альберика[1]
Сен-Бертран-де-Комменж – захудалое местечко на отроге Пиренейских гор, расположенное недалеко от Тулузы и еще ближе к Баньер-де-Люшон. До революции там находилась резиденция епископа, и местный кафедральный собор до сих пор притягивает некоторое количество туристов. Весной 1883 года в этом древнем поселении – едва ли его можно удостоить названия города, ведь там нет и тысячи жителей, – появился англичанин. То был кембриджский ученый, который специально приехал из Тулузы, чтобы осмотреть здешнюю церковь, и оставил в тулузской гостинице двоих друзей, не питавших столь горячей страсти к археологии, взяв с них обещание присоединиться к нему следующим утром. Получасового визита в церковь им будет вполне достаточно, а после все трое смогут продолжить путь в направлении города Оша. Но сегодня наш англичанин приехал один, намереваясь заполнить целый блокнот и использовать несколько дюжин фотопластинок, дабы описать и запечатлеть каждый уголок замечательного собора, венчающего небольшой комменжский холм. Для воплощения в жизнь его задумки необходимо было на весь день завладеть алтарником церкви. Несколько бесцеремонная дама, заправлявшая трактиром «Красная шапочка», тут же послала за алтарником, или ризничим (я предпочитаю второе название, пусть оно и неточное); когда же он явился, англичанин обнаружил в нем неожиданно любопытный объект для изучения. Заинтересовала его не внешность маленького, иссохшего старичка, поскольку тот выглядел точно так же, как множество других церковных служителей по всей Франции, а причудливый ореол таинственности – или, точнее, испуга и удрученности, – который его окружал. Он то и дело воровато оглядывался; мышцы его спины и плеч скручивал непрерывный нервный спазм, словно он боялся в любой момент очутиться в цепкой хватке врага. Англичанин не мог определить: то ли старика преследует какая-то навязчивая галлюцинация, то ли ему не дает покоя нечистая совесть, то ли он просто замучен упреками жены. Если рассуждать здраво, наиболее вероятной казалась последняя идея; и все же складывалось впечатление, что преследователь несчастного куда более грозен, чем просто сварливая супруга.
Однако англичанин (назовем его Деннистаун) вскоре настолько увлекся своими блокнотом и фотоаппаратом, что на ризничего взглядывал лишь мимоходом. Когда же это случалось, тот всякий раз оказывался поблизости – либо стоял, прижавшись спиной к стене, либо сидел, скрючившись, на одной из роскошно украшенных резных скамей. Через какое-то время Деннистауну сделалось немного не по себе: его начали терзать смутные мысли о том, что он отрывает старика от второго завтрака или что его подозревают в намерении умыкнуть из собора либо патерицу[2] слоновой кости, либо пыльное чучело крокодила, висящее над крестильной чашей.
– Почему бы вам не отправиться домой? – предложил он наконец. – Я вполне способен закончить свои заметки в одиночестве. Если хотите, можете меня запереть. Мне понадобится еще часа два, не меньше. А вы наверняка уже замерзли?
– Боже упаси! – воскликнул старичок, которого это предложение, казалось, ввергло в неизъяснимый ужас. – Такой мысли я не могу допустить даже на миг. Оставить месье одного в церкви? Нет-нет; два часа, три часа – мне это все равно. Я позавтракал и вовсе не замерз, благодарю вас сердечно, месье.
– Что ж, хорошо, любезный мой, – молвил Деннистаун себе под нос, – я тебя предупредил и за последствия не отвечаю.
Не успели истечь два часа, как и скамьи, и огромный обветшалый орган, и алтарная преграда времен епископа Иоанна Молеонского, а также уцелевшие витражи и гобелены и содержимое сокровищницы были тщательно осмотрены; ризничий по-прежнему следовал за Деннистауном по пятам, время от времени резко оборачиваясь, будто ужаленный, когда до его слуха доносился какой-нибудь загадочный звук из тех, что неизменно гуляют в просторных пустых зданиях. Иногда раздавались и вправду любопытные звуки.
– Один раз, – признался мне Деннистаун, – я мог бы поклясться, что слышал тоненький и резкий, будто скрежет металла, смех высоко в башне. Я бросил вопросительный взгляд на своего ризничего: тот был белый как полотно. «Это он… то есть… это ничего; дверь заперта», – только и сказал старик, и после этого мы с целую минуту молча глядели друг на друга.
Порядочно озадачил Деннистауна и еще один мелкий инцидент. Он изучал большую темную картину, висящую за алтарем, – одну из серии полотен, изображающих чудеса святого Бертрана. Композицию картины расшифровать было практически невозможно, однако внизу стояло пояснение на латыни, гласившее:
«Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem diabolus diu volebat strangulare». («Как святой Бертран избавил человека, которого дьявол пытался задушит».)
Деннистаун обернулся было к ризничему с улыбкой и неким шутливым замечанием на устах, но с изумлением обнаружил, что старик стоит на коленях, крепко стиснув руки и взирая на картину молящим взором, словно мучимый пыткой, а по щекам его ручьями льются слезы. Деннистаун, само собой, сделал вид, что ничего не заметил, но никак не мог отделаться от вопроса: «Каким образом подобная мазня может оказывать на кого-то столь мощное воздействие?» Ему показалось, что он начинает догадываться, в чем причина странного вида старика, который весь день его озадачивал: он, вероятно, помешался; но только на чем именно?
Было почти пять часов; короткий день клонился к вечеру, и церковь стала наполняться тенями, а таинственные звуки – приглушенные шаги, отдаленные голоса, которые едва слышно доносились до них весь день, – казалось, начали звучать все чаще и навязчивей, – несомненно, из-за того, что в сумерках слух обостряется.
И только теперь ризничий начал проявлять признаки спешки и нетерпения. Когда фотоаппарат и блокнот были наконец убраны, старик вздохнул с облегчением и торопливо поманил Деннистауна за собой к западной двери церкви, той, что под колокольней. Настало время возвестить о молитве Богородице. Стоило несколько раз рвануть строптивую веревку, и ожила Бертрана – большой колокол на самой вершине башни; голос ее разнесся над макушками сосен и прокатился по долинам среди звенящих горных ручьев, призывая обитателей одиноких холмов вспомнить и повторить приветствие ангела для той, которую он назвал благословенной в женах. После этого над деревушкой впервые за весь день воцарилась глубокая тишина и Деннистаун с ризничим вышли из собора.
На пороге у них завязался разговор.
– Месье, кажется, заинтересовали старые хоровые книги в ризнице.
– Несомненно. Я собирался спросить у вас, нет ли в деревне библиотеки.
– Нет, месье; может, когда-то при капитуле и была, но теперь тут почти никто не живет… – Внезапно в разговоре наступила неловкая пауза, словно ризничий пытался на что-то решиться. Потом, словно поборов себя, он продолжил: – Но если месье – amateur des vieux livres[3], у меня дома найдется кое-что, что может показаться ему любопытным. Это меньше чем в сотне ярдов.
Тут разом все заветные мечты Деннистауна обнаружить в забытом богом уголке Франции бесценную рукопись вспыхнули ярким пламенем перед его мысленным взором, но в следующее же мгновение погасли. Речь наверняка шла о каком-нибудь дурацком служебнике из типографии Плантена, года этак 1580-го. Разве возможно, чтобы так близко от Тулузы сохранилось нечто стоящее, чем еще не поживились коллекционеры? Однако не пойти было глупо; отказавшись, он корил бы себя за это до скончания жизни. Что ж, они отправились в путь. По дороге Деннистауну вспоминались странные колебания и внезапная решимость ризничего; ему даже пришла в голову постыдная мысль, что его, предположительно богатого англичанина, заманивают в какую-нибудь дыру, чтобы прикончить и обчистить. Поэтому он решил возобновить беседу со своим провожатым и как бы невзначай упомянуть, что завтра рано поутру ожидает прибытия двоих друзей. К его удивлению, этот факт как будто облегчил беспокойство, которое тяготило ризничего.
– Это хорошо, – сказал тот с удивительной живостью, – это очень хорошо. Месье предстоит путешествовать в обществе друзей; они всегда будут рядом с ним. Иметь компанию в путешествии – это очень хорошо… иногда.
Последнее слово он добавил после паузы – казалось, эта мысль пришла ему в голову запоздало и снова погрузила несчастного старика в мрачную угрюмость.
Вскоре они добрались до места. Сложенный из камня дом несколько выделялся размерами среди ряда соседей, а над входом его был вырезан герб – герб Альберика де Молеона, потомка по боковой линии епископа Иоанна Молеонского, как сообщил мне Деннистаун. Этот самый Альберик служил каноником Комменжа с 1680 по 1701 год. Окна верхнего этажа забили досками, и от всего здания, как и от остального Комменжа, веяло угасанием и ветхостью.
У порога ризничий на мгновение замешкался.
– Быть может, – сказал он, – быть может, у месье все-таки нет времени?
– Что вы, времени у меня полно. До самого завтрашнего утра мне совершенно нечего делать, и я с удовольствием взгляну на все, что вы мне покажете.
В этот момент входная дверь открылась и наружу выглянула особа с лицом, намного более молодым, чем лицо ризничего, но отмеченным той же печатью тревожности: впрочем, на нем читался не столько страх за себя, сколько острое беспокойство за кого-то другого. Очевидно, той особой была дочь старика; и, если отставить в сторону описанное мною выражение, она была вполне недурна собой. Увидев отца в обществе крепкого незнакомца, девушка заметно приободрилась. Отец и дочь обменялись парой фраз, из которых Деннистаун уловил лишь несколько слов, произнесенных ризничим: «Он смеялся в церкви». Девушка ничего не ответила, но в глазах ее отразился ужас.
Тем не менее уже через минуту они сидели в гостиной дома – небольшой комнате с высоким потолком и каменным полом. Пламя, мерцавшее в большом камине, отбрасывало на стены хоровод дрожащих теней. Большое распятие, доходившее почти до потолка, придавало комнате схожесть с молельней; фигура на нем была выкрашена в естественные тона, крест казался черным. Ниже стоял солидный старый сундук, и, когда в гостиную принесли лампу и расставили стулья, ризничий подошел к этому сундуку и достал оттуда, с растущим возбуждением и нервозностью, как показалось Деннистауну, большой том, завернутый в белую ткань, на которой грубо вышили красной нитью крест.
Еще до того, как книгу развернули, Деннистауна заинтересовали ее размер и очертания. «Великовата для служебника, – подумал он, – а для антифонария форма не та. Может статься, это и вправду что-то любопытное». В следующее мгновение книгу открыли, и Деннистауна охватило чувство, что он наконец-то наткнулся на нечто очень примечательное. Перед ним лежал большой фолиант, переплетенный, пожалуй, в конце семнадцатого века и украшенный с обеих сторон тисненными золотом гербами каноника Альберика де Молеона. Книга насчитывала около полутора сотен листов, почти к каждому из которых была прикреплена страница иллюминированной рукописи. Даже в самых смелых своих мечтах Деннистаун едва ли надеялся обнаружить подобное собрание.
Он увидел десять страниц из Книги Бытия, снабженных изображениями, никак не младше семисотого года от Рождества Христова. Далее располагался полный набор иллюстраций из Псалтири английского исполнения – самого изящного, какое только мог предложить тринадцатый век; и – пожалуй, самое великолепное – двадцать исписанных унциальным шрифтом страниц на латыни, которые, как ему тут же подсказали несколько замеченных тут и там слов, определенно принадлежали какому-то очень раннему неизвестному святоотеческому трактату. Возможно, это был фрагмент «Изложения изречений Господних» авторства Папия Иерапольского – утерянного трактата, следы которого обрываются в двенадцатом веке в Ниме?[4] Так или иначе, он твердо решил: эта книга должна вернуться вместе с ним в Кембридж, даже если ему придется посулить за нее все свои сбережения и оставаться в Сен-Бертране, пока деньги не придут в местный банк. Он поднял взгляд на старика, пытаясь угадать по выражению его лица, можно ли надеяться, что книга продается. Ризничий был бледен, его губы беззвучно шевелились.
– Если месье будет угодно долистать до конца… – проговорил он наконец.
Что ж, месье продолжил листать, на каждом развороте находя все новые сокровища. В конце книги он обнаружил два листа бумаги, значительно более новых, чем все увиденное до этого, что весьма его озадачило. Он решил, что эти два листа – современники беспринципного каноника, который, несомненно, разграбил библиотеку сен-бертранского капитула, дабы составить этот бесценный альбом. На первом листе содержался тщательно нарисованный план, в котором любой посвященный моментально узнал бы южный неф и галереи местного собора. План дополняли любопытные знаки, похожие на символы планет, а по углам стояло несколько слов на иврите; в северо-западном углу галереи золотой краской был нарисован крест. Начертанные под планом несколько строк на латыни гласили следующее:
«Responsa 12mi Dec. 1694. Interrogatum est: Inveniamne? Responsum est: Invenies. Fiamne dives? Fies. Vivamne invidendus? Vives. Moriarne in lecto meo? Ita». («Ответы от 12 декабря 1694 года. Вопрос: Я найду его? Ответ: Найдешь. Я разбогатею? Разбогатеешь. Я стану объектом зависти? Станешь. Я умру в своей постели? Да».)
– Славный образец записей охотника за сокровищами – на память приходит младший каноник Куатремейн из «Старого собора Святого Павла»[5], – отметил Деннистаун и перевернул страницу.
Увиденное далее немало поразило Деннистауна, как часто он признавался мне, – он никогда и не представлял себе, чтобы рисунок или картина могли произвести на него настолько сильный эффект. И, хотя изображение, которое он увидел, более не существует, у меня имеется его фотография, которая полностью оправдывает его реакцию. Это был выполненный сепией рисунок конца семнадцатого века, воплощавший, как вам может показаться вначале, библейский сюжет, поскольку архитектура (сцена разворачивалась в помещении) и фигуры людей имели тот полуканонический облик, который художники две сотни лет назад считали приличествующим для иллюстраций к Библии. Справа на троне, поднятом на двенадцать ступеней, восседал царь; над троном нависал балдахин, а по бокам стояли воины. Вне всяких сомнений, это был царь Соломон. Подавшись вперед, он вытянул скипетр в повелительном жесте; на лице его читались ужас и отвращение, однако лежала на нем также печать надменной властности и уверенности в своем могуществе. Однако левая половина рисунка выглядела куда более странной и сразу же приковывала к себе взгляд. Перед троном стояли четверо воинов, окружая согбенную фигуру, которую я опишу через мгновение. Пятый воин лежал на полу мертвый: шея его была неестественно изогнута, глаза выпучены. Четверо стражников смотрели на царя. Выражение ужаса на их лицах читалось еще более явственно; на самом деле, казалось, лишь безоговорочная вера в своего господина удерживает их от бегства. Всеобщий страх вызвало, очевидно, существо, скрючившееся на полу между ними. Как бы я ни старался, мне не удается в полной мере выразить впечатление, которое это создание производило на всякого, кто его видел. Помнится, как-то раз я показал фотографию рисунка одному профессору морфологии – человеку, я бы сказал, необычайно здравомыслящему и лишенному воображения. Тот решительно заявил, что до конца вечера не желает оставаться в одиночестве, а после признался мне, что еще много дней не смел затушить свет перед тем, как ложиться спать. И все же я могу попытаться общими штрихами набросать основные приметы существа. Поначалу смотрящий замечал лишь копну жесткой свалявшейся черной шерсти; следом становилось ясно, что она покрывает пугающе худое, как скелет, тело, на котором, словно тросы, натянуты мышцы. Ладони были тускло-серые, покрытые, как и остальная поверхность кожи, длинной, жесткой шерстью, а пальцы увенчивались отвратительными когтями. Раскрашенные ярко-желтым глаза с непроглядно-черными зрачками буравили сидящего на троне царя взглядом, полным звериной ненависти. Представьте себе, что будет, если придать человеческое обличье одному из тех ужасных пауков-птицеедов, что водятся в Южной Америке, и наделить его интеллектом чуть ниже человеческого – и вы получите некоторое слабое представление о страхе, который внушает сие отвратительное чудовище. А еще все, кому я показывал фотографию, неизменно говорили одно: «Это нарисовано с натуры».
Как только отхлынула первая волна неодолимого испуга, Деннистаун украдкой взглянул на хозяев дома. Ризничий прятал лицо в ладонях; его дочь, подняв взор к распятию на стене, неистово перебирала четки.
Наконец вопрос был задан:
– Вы продадите мне эту книгу?
После новых колебаний и неожиданного прилива решительности, который Деннистаун уже наблюдал ранее, прозвучал долгожданный ответ:
– Если месье угодно.
– Сколько вы за нее просите?
– Двести пятьдесят франков.
Деннистаун пришел в замешательство. Даже совесть коллекционера – и та иногда дает о себе знать, а его совесть очерствела куда менее, чем у бывалых охотников за редкостями.
– Любезный мой! – принялся увещевать он. – Ваша книга стоит гораздо больше, чем две с половиной сотни франков, уверяю вас! Гораздо больше!
Но ответ был неизменным:
– Я возьму за нее двести пятьдесят франков и не более.
Что ж, в самом деле, как не ухватиться за такой шанс! Деньги были уплачены, чек подписан, в честь сделки подняли бокал вина, и после этого ризничий словно стал другим человеком. Он перестал горбиться и бросать за спину тревожные взгляды, а однажды даже рассмеялся – или, во всяком случае, попытался это сделать. Наконец Деннистаун поднялся.
– Окажет ли месье мне честь, разрешив проводить его до гостиницы? – спросил ризничий.
– О нет, благодарю вас! До нее меньше сотни ярдов, дорогу я знаю, да и луна светит ярко.
Ризничий повторил свое предложение еще раза три-четыре и выслушал столько же отказов.
– Что ж, тогда месье позовет меня, если… если появится повод. Ему лучше держаться середины дороги – края очень каменистые.
– Всенепременно, – отозвался Деннистаун, которому не терпелось изучить свой трофей в одиночестве, и, зажав книгу под мышкой, направился в коридор.
Тут на его пути оказалась дочь ризничего. Она была взволнована и, казалось, решила сама немного поторговаться – возможно, подобно Гиезию, желая «взять что-нибудь» с чужеземца, которого пощадил ее отец.
– Серебряное распятие и цепочка на шею… не соблаговолит ли месье принять?
Деннистауну, честно говоря, не было от этих безделушек особого проку.
– Чего же мадемуазель просит взамен?
– Ничего – ничего в целом свете. Пускай месье их забирает просто так.
Все это и еще многое другое она произнесла столь несомненно искренним тоном, что Деннистауну оставалось лишь рассыпаться в благодарностях и позволить надеть цепочку себе на шею. Ему все отчетливей казалось, будто он сослужил отцу и дочери какую-то службу и теперь они едва ли знают, как ему за нее отплатить. Когда он спускался с крыльца со своей покупкой, они стояли в дверях, глядя ему вслед, и не уходили до тех пор, пока он не помахал им на прощание с порога «Красной шапочки».
Закончив ужинать, Деннистаун заперся в номере со своим приобретением. Как только он поведал хозяйке трактира, что побывал у ризничего и купил у него старую книгу, женщина начала проявлять к нему недюжинный интерес. А еще ему показалось, что он слышал, как она и вышеупомянутый ризничий торопливо шепчутся в переулке за окном salle à manger[6], причем закончился их разговор фразой, похожей на «Пьер и Бертран будут спать в доме».
В то же время его все более и более охватывало странное и неприятное чувство – должно быть, нервная реакция на испытанную поначалу радость от находки. Так или иначе, его не отпускало ощущение, будто позади кто-то есть, и он чувствовал себя гораздо комфортнее, сидя спиной к стене. Но это неудобство, конечно же, меркло по сравнению с очевидной ценностью приобретенного им собрания. И вот, как я уже сказал, он остался один в своей спальне и принялся осматривать сокровища каноника Альберика, среди которых каждую минуту находил что-нибудь еще более восхитительное.
– Благослови Боже каноника Альберика! – воскликнул Деннистаун, имевший застарелую привычку разговаривать сам с собой. – Кто знает, где он сейчас! Господи! Хотелось бы мне, чтобы здешняя хозяйка смеялась как-то повеселее; а то кажется, будто в доме мертвец. Еще полтрубки, говоришь? Да, думаю, не повредит. Что же за крестик с такой настойчивостью вручила мне юная особа? Работа, пожалуй, прошлого века. Скорее всего. Не слишком удобно таскать его на шее – уж больно тяжел. Наверняка ее отец носил эту штуку долгие годы. Пожалуй, стоит почистить, прежде чем убирать в ящик.
Сняв распятие, он положил его на стол, и тут вдруг его внимание привлек некий предмет, лежащий на красном сукне возле его левого локтя. С бессчетной быстротой в уме Деннистауна пронеслись две-три догадки о том, что это может быть.
– Перочистка? Нет, откуда ей взяться в этом доме. Крыса? Нет, слишком черна. Большой паук? От души надеюсь, что это не… нет. Боже мой! Рука! Рука, точно как на том рисунке!
Еще одно бесконечно короткое мгновение он смотрел на нее. Тусклая, бледная кожа, под которой скрывались лишь кости и мускулы возмутительной мощи; жесткие черные волосы, слишком длинные, чтобы расти на человеческой руке; ногти, резко загнутые на кончиках пальцев – серые, грубые и ороговевшие.
Он вскочил; сердце его стискивал смертельный, неописуемый ужас. Существо, левая рука которого лежала на столе, начало распрямляться во весь рост за спинкой его стула; правая рука твари нависала над головой Деннистауна. Изодранная темная накидка, жесткая черная шерсть – все выглядело точно таким, как на рисунке. Нижняя челюсть казалась узкой и – какие же подобрать слова? – недоразвитой, словно звериная; за черными губами виднелись зубы; нос отсутствовал. Но самой кошмарной чертой его облика были горящие желтым огнем глаза с угольно-черными зрачками, светившиеся ненавистью и желанием уничтожить все живое. В них читалось подобие разума – выше звериного, но ниже человеческого.
Это ужасное зрелище вызвало у Деннистауна сильнейший физический страх и одновременно глубочайшее душевное отвращение. Как ему быть? Что он может сделать? Впоследствии он так и не сумел вспомнить толком, какие слова произнес, но твердо знал, что что-то сказал и слепо потянулся за серебряным распятием. От осознания того, что демон движется в его сторону, Деннистаун испустил крик – вопль зверя в ужасной агонии.
Пьер и Бертран – двое коренастых ребят, прислуживавших в трактире, – ворвались в комнату, но никого не увидели, однако ощутили, как нечто проскользнуло мимо, оттолкнув их в стороны. Деннистауна они нашли без чувств и просидели с ним всю ночь, пока около девяти утра в Сен-Бертран не явились его оксфордские приятели. К этому времени хоть нервное потрясение отступило не до конца, но он уже почти пришел в себя, и друзья поверили его рассказу – однако лишь после того, как своими глазами увидели рисунок и побеседовали с ризничим.
Почти на заре тот под каким-то предлогом явился в трактир и с глубочайшим интересом выслушал рассказ о случившемся от хозяйки. Никаких признаков удивления он не выказал.
– Это он… это он! Я тоже его видел, – только и сказал старичок, а все дальнейшие расспросы удостаивал лишь одним ответом: «Deux fois je l’ai vu; mille fois je l’ai senti»[7]. Он ни слова не проронил о происхождении книги и отказался поведать хоть какие-то подробности того, что испытал сам. – Скоро я усну, и сон мой будет сладок. Зачем вы меня тревожите? – сказал он[8].
Мы никогда не узнаем, что пережили он или каноник Альберик де Молеон. На обороте этого ужасного рисунка были начертаны строки, которые, может статься, способны пролить свет на случившееся:
Contradictio Salomonis cum demonio nocturno.
Albericus de Mauleone delineavit.
V. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.
Sancte Bertrande, demoniorum effugator, intercede pro me miserrimo.
Primum uidi nocte 12mi Dec. 1694: uidebo mox ultimum. Peccaui et passus sum, plura adhuc passurus. Dec. 29, 1701[9].
Я так и не понял до конца, какого мнения придерживался сам Деннистаун об изложенных здесь событиях. Однажды он процитировал мне отрывок из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова: «Есть ветры, которые созданы для отмщения и в ярости своей усиливают удары свои». В другой раз он сказал: «Исайя был весьма здравомыслящим человеком; и разве не упоминал он о ночных чудовищах, живущих в развалинах Вавилона? Эти вещи выше нашего сегодняшнего понимания».