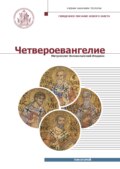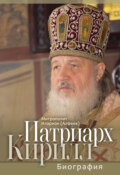митрополит Иларион (Алфеев)
Иисус Христос: Жизнь и учение. Книга V. Агнец Божий
Эти слова и знаки свидетельствуют о том, что Иисус знал о намерениях Иуды, понимал, что происходит у него внутри. С самого начала своего Евангелия Иоанн готовит читателя к этому эпизоду. Он дает понять, что Иисус избрал Иуду не по ошибке: Он от начала знал… кто предаст Его (Ин. 6:64). При этом Он дал Иуде шанс стать апостолом, дал ему те же права и привилегии, что и прочим ученикам. Предательство стало делом личного выбора Иуды.

5. «Иудеи» в Евангелии от Иоанна

В приведенном выше рассказе об изгнании торгующих из храма дважды употреблен термин «иудеи» (Ιουδαίοι). Прежде чем рассматривать следующие эпизоды из четвертого Евангелия, необходимо кратко остановиться на значении этого термина, встречающегося в Евангелии от Иоанна в общей сложности около семидесяти раз[119]. В прямой речи Иисуса термин появляется четыре раза (Ин. 4:22; 13:33; 18:20, 36). Все остальные случаи – авторский текст евангелиста.
При поверхностном подходе к тексту четвертого Евангелия может сложиться впечатление, что его автор представляет иудеев как большую и монолитную группу, не делая различий между иудеями Галилеи, Иудеи или Иерусалима[120]. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что примерно в половине случаев термин «иудеи» в авторском тексте указывает на тех, кто находится в оппозиции к Иисусу[121], то есть прежде всего на религиозных лидеров израильского народа[122]. Они имеют прямую связь с Иерусалимским храмом, осуществляют духовную власть над Иудеей и имеют немало последователей, в том числе в Галилее[123]. У Иоанна термин «иудеи» становится обобщенным обозначением тех групп, которые авторы синоптических Евангелий называют словосочетаниями «книжники и фарисеи», «первосвященники и старейшины» (а иногда «первосвященники и старейшины и книжники» или «первосвященники и старейшины иудейские»)[124].
В новозаветной науке существуют разнообразные теории относительно того, как соотносились между собой различные группы упомянутых в Евангелиях лиц, представлявших религиозную элиту израильского народа. Чаще всего под «первосвященниками и старейшинами» понимают верхушку храмового духовенства. «Священники и левиты» – низшая прослойка храмового духовенства. Что же касается «книжников», то в большинстве своем это были миряне, занимавшиеся изучением, переписыванием и толкованием Торы. В народе они пользовались авторитетом, который конкурировал с авторитетом храмового духовенства[125]. К числу фарисеев принадлежали как представители духовенства, так и миряне. В синоптических Евангелиях все перечисленные группы лиц оказываются в оппозиции Иисусу.

Христос среди книжников. Дюрер 1506 г
В четвертом Евангелии термин «фарисеи» встречается 19 раз, «первосвященники» – 10, «старейшины» – 3. Термин «книжники» не встречается ни разу, кроме рассказа о женщине, взятой в прелюбодеянии[126]. Однако главным отличием Иоанна от синоптиков является не употребление этих терминов, а последовательное – на протяжении всего Евангелие – использование термина «иудеи» в качестве основного наименования противников Иисуса.
Впервые этот термин был употреблен Иоанном в рассказе о том, как прислали Иудеи[127] из Иерусалима священников и левитов (ιερείς και Λευίτας) спросить Иоанна Крестителя: Кто ты? (Ин. 1:19). Конструкция фразы здесь такова, что слова «из Иерусалима» (έξ Ιεροσολύμων) могут относиться как к тому, что за ними следует (то есть к священникам и левитам), так и к тому, что им предшествует (то есть к иудеям).
Таким образом, уже при первом упоминании «иудеев» под этим термином подразумевается группа лиц, стоящая за «священниками и левитами» и имеющая по отношению к ним начальственные полномочия. Эта группа лиц связана с Иерусалимским храмом. Под «священниками и левитами» следует понимать низших служителей храма, в отличие от высших, которые обозначались термином «первосвященники» (αρχιερείς).
Еще в одном эпизоде, который мы подробнее рассмотрим ниже, речь пойдет о том, как послали фарисеи и первосвященники служителей – схватить Его. Когда служители, потрясенные речью Иисуса, возвращаются к первосвященникам и фарисеям без Него, фарисеи спрашивают: Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? (Ин. 7:22, 45–46, 48). Здесь та же группа лиц, которая в рассказе о посланных к Иоанну Крестителю была обозначена термином «иудеи», отождествляется с первосвященниками (αρχιερείς), фарисеями (Φαρισαίοι) и начальниками (άρχοντες). Эта группа лиц сохранила лидирующую роль в еврейском народе не только после смерти и воскресения Иисуса, но и после разрушения Иерусалимского храма в 70 году: именно она, по мнению Дж. Эштона, заложила основы иудаизма в той форме, в которой он известен сегодня[128].
Очень часто термин «иудеи» в четвертом Евангелии синонимичен термину «фарисеи»: пришедший к Иисусу ночью Никодим обозначен как человек из фарисеев (άνθρωπος έκ των Φαρισαίων), начальник Иудейский (άρχων των Ιουδαίων – буквально: «начальник иудеев») (Ин. 3:1). Священники и левиты, посланные иудеями к Иоанну Крестителю, были из фарисеев (Ин. 1:24).
Ученики Иоанновы спорили с иудеями об очищении (Ин. 3:25). Иудеи говорили бывшему расслабленному: Сего дня суббота; не должно тебе брать постели (Ин. 5:10). Иудеи роптали на Иисуса и говорили: Не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? (Ин. 6:41–42). Иудеи искали Его на празднике и говорили: где Он? (Ин. 7:11). Иудеи, услышав слова Иисуса, дивились: Как Он знает Писания, не учившись? (Ин. 7:15). Иудеи говорили: Куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? (Ин. 7:35). Иудеи спрашивали: Неужели Он убьет Сам Себя? (Ин. 8:22). Иудеи обвиняли Иисуса в том, что Он самарянин и в Нем бес (Ин. 8:48, 52). Иудеи допрашивали исцеленного от слепоты (Ин. 9:18–34), как ранее они же допрашивали исцеленного от расслабления. Иудеи хватали в руки камни, чтобы побить Иисуса (Ин. 10:31). Иудеи искали убить Его (Ин. 5:16; Ин. 7:1).
Во всех этих и многих других эпизодах отчетливо просматривается конкретная, по-видимому небольшая, группа лиц, объединенная условным наименованием «иудеи», но представляющая собой не весь иудейский народ, а только его религиозно-политическую верхушку. Эта группа лиц озабочена буквальным соблюдением закона Моисеева, в частности заповеди субботнего покоя (Ин. 5:16); видит в Иисусе Человека, который возомнил о Себе слишком много, ставя Себя выше Авраама (Ин. 8:58), делая Себя равным Богу (Ин. 5:18; 10:33).
Иногда «иудеи» прямо противопоставляются «народу»: И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев (Ин. 7:12–13). В данном случае «народ» – это жители Иерусалима и окрестностей, иудеи по вероисповеданию и этническому происхождению. Однако термин «иудеи» зарезервирован для группы лиц, которой народ «боялся». Почему боялся? Потому что в ее руках была сосредоточена власть.
Тем не менее в некоторых случаях в четвертом Евангелии термин «иудеи» употребляется расширительно, указывая: а) на иудеев по вере, в отличие от самарян; б) на иудеев по этническому происхождению, в отличие от галилеян; или в) на иудеев, проживающих на родине, в отличие от живущих в рассеянии. Например, в словах спасение от Иудеев (Ин. 4:22) из беседы с самарянкой термин, очевидно, указывает на тех, кто придерживается иудейской веры в противовес ее самарянскому варианту. В другом эпизоде иудеи противопоставляются жителям Галилеи: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его (Ин. 7:1). В третьем эпизоде иудеи противопоставляются Еллинам (Ин. 7:35).

Вид Назарета и Галилеи. Н. Г. Чернецов XIX в
Когда термин «иудеи» употребляется расширительно, речь идет о весьма неоднородной группе лиц. Между ними были не только враждебно настроенные по отношению к Иисусу, но и те, кто симпатизировал Ему: Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его? Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым? (Ин. 10:20–21). Были и те, о которых евангелист пишет: .Многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса (Ин. 12:11). К уверовавшим в Него иудеям Иисус обращался отдельно (Ин. 8:31).
Споры Иисуса с иудеями, которыми наполнены страницы Евангелия от Иоанна, в современной научной литературе нередко описываются как «семейные ссоры»[129] или «братске диспуты об общем наследии»[130]. Действительно, Иисус критиковал иудаизм не извне, а изнутри[131]. И Он, и Его оппоненты принадлежали к одной этнической семье, к одному «дому Израилеву». И Он, и они исповедовали строгий монотеизм. И Он, и они по-своему любили храм Иерусалимский. С чисто формальной точки зрения Иисус и Его оппоненты не были настолько далеки друг от друга, как, например, верующие от атеистов или представители монотеистических религий от язычников.
И тем не менее нельзя не увидеть натяжку в попытках некоторых современных ученых сблизить Иисуса с фарисеями, сгладить различия между ними за счет противопоставления их саддукеям или зилотам (борцам за политическую независимость Израиля от римской оккупации). Такие попытки предпринимаются, как правило, с целью освобождения Иисуса и раннего христианства, как оно отражено в Евангелиях, от обвинений в антисемитизме. В «оправдание» Иисуса и евангелистов, особенно Иоанна, приводятся следующие аргументы: 1) жесткие обличения в адрес израильского народа задолго до Иисуса исходили от ветхозаветных пророков; 2) Иисус и евангелисты критикуют иудейскую традицию изнутри этой традиции; 3) считать, что Иисус является исполнением ветхозаветных пророчеств, вовсе не то же самое, что выражать ненависть к еврейскому народу; 4) упоминания об «иудеях» в негативном ключе никогда не относятся к еврейскому народу в целом, а только к отдельным его представителям[132].
Ни Иисус, ни Его апостолы не нуждаются в «оправдании», в защите от обвинений в антисемитизме. Сама попытка применить понятие «антисемитизм» к раннему христианству недопустима и нелепа, во-первых, потому, что является вопиющим анахронизмом: нельзя проецировать на древнюю эпоху современную озабоченность социально-политической проблематикой[133]. Во-вторых, понятием «антисемитизм» обозначается ненависть к конкретному этносу, тогда как и Сам Иисус, и все Его апостолы, включая Павла, принадлежали к этому этносу.
На протяжении всего четвертого Евангелия Иисус обличает иудеев, но не за то, что они иудеи, а за то, что они не верят Его словам. Тональность этих обличений – гневная, подчас сатирическая[134]. Но объясняется она отнюдь не ненавистью Иисуса к иудеям как народу, а упорством Его оппонентов, не желающих принять послание, которое Отец передал им через Своего Сына. В самом начале четвертого Евангелия утверждается, что Сын Божий пришел к своим, и свои Его не приняли (Ин. 1:11). И тем не менее они продолжают оставаться для Него «своими». Гневный тон Его обличений в их адрес отражает боль, которую в Нем вызывает их реакция на Его проповедь.
Отвечая на вопрос: какое преимущество быть Иудеем? – апостол Павел говорит: Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие (Рим. 3:1–2). Павел посвящает многие страницы своих посланий размышлениям о судьбе израильского народа. Несмотря на то что этот народ отверг Мессию, Бог не отверг народ Свой, считает Павел (Рим. 11:1). Он верит, что весь Израиль спасется. Но произойдет это после того, как в Церковь – Новый Израиль – войдет полное число язычников (Рим. 11:25–26).

Иоанн Богослов на Патмосе. Икона XVII в
В корпусе писаний Иоанна мы не находим столь же развитого богословского осмысления роли израильского народа в деле спасения. Однако в его понимании все главные иудейские иституции (праздники, храм, Писание, закон) и все ключевые фигуры еврейской истории (Моисей, Авраам, Иаков, Давид) находят свое осуществление и исполнение в Иисусе, Который становится источником спасения не только для иудеев, но и для всех народов. Иоанн враждебен к иудеям лишь постольку, поскольку они враждебны к Иисусу[135]. Для Иоанна быть истинным иудеем означает быть христианином[136]. В этом – ключ к пониманию пресловутого антииудаизма (или антисемитизма) четвертого Евангелия[137].

Глава 3
Вода живая

Евангелие от Иоанна часто называют литургическим. Все основные описанные в нем события происходят в праздники, будь то Пасха (Ин. 2:13, 23; 6:4; 11:55; 12:1; 13:1; 18:39), неназванный «праздник иудейский» (Ин. 5:1), праздник кущей (Ин. 7:2) или праздник обновления храма (Ин. 10:22). Только из этого Евангелия мы узнаем, что жизнь Иисуса и Его общины, Его путешествия из Галилеи в Иерусалим и обратно были связаны с ветхозаветным литургическим календарем, определяемым этими праздниками.

В то же время именно Евангелие от Иоанна, больше чем любое другое Евангелие, закладывает богословские основы литургической жизни новозаветной Церкви, определяемой двумя главными таинствами: Крещения и Евхаристии. Синоптические Евангелия единодушно свидетельствуют о крещении Иисуса от Иоанна в Иордане и о том, как на Тайной Вечере Иисус раздал ученикам Свои Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Однако подробное богословское осмысление Крещения и Евхаристии в них отсутствует: его мы находим в Евангелии от Иоанна и в посланиях апостола Павла, что сближает этих двух творцов христианского богословия, близких и во многих других отношениях.
Крещальная тема присутствует – явно или подспудно – в четырех главах Евангелия от Иоанна, посвященных четырем разным событиям: беседе Иисуса с Никодимом (Ин., гл. 3), беседе с самарянкой (Ин., гл. 4), исцелению расслабленного у Овчей купели (Ин., гл. 5) и посещению Иисусом Иерусалима в праздник кущей (Ин., гл. 7). Дважды упоминается о том, что проповедь Иисуса и Его учеников на начальном этапе сопровождалась крещением, – в Ин. 3:22 (после сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил) и Ин. 4:2 (хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его').
Объединяет все эти сюжеты образ воды. Представляется целесообразным рассмотреть данные сюжеты в комплексе. Весь этот богатый материал дает достаточно полное представление о том, почему последней заповедью Иисуса ученикам, в каком-то смысле итогом всей Его земной миссии, были слова: Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28:19). Он также помогает понять, почему Церковь придала таинству Крещения исключительное значение, сделав догматом учение о том, что без крещения невозможно войти в Царство Небесное.

1. Вода – стихия жизни

Вода – один из основных библейских символов. Книга Бытия начинается со слов: В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма была над бездною, и Дух Божий носился над водою (Быт. 1:1–2). Эти слова, отмечает Тертуллиан, указывают на чистоту воды как стихии, более приятной Богу, чем прочие существовавшие тогда стихии: «Ведь и тьма тогда была еще полной и безобразной, без украшения звезд, и бездна печальной, и земля неухоженной, и небо неприглядным. Одна только влага – вещество всегда совершенное, приятное, простое, само по себе чистое – была достойна носить Бога»[138]. По словам латинского писателя, вода – «одна из тех стихий, которые в неоформленном виде покоились у Бога прежде всякого благоустроения мира»[139].
Вода была тем первичным элементом, из которого на первом же этапе творения (в первый «день») были созданы небо и море: это произошло благодаря отделению воды, которая под твердью, от воды, которая над твердью. На второй день вода, которая под небом, собралась в одно место, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями (Быт. 1:6-10).
На пятый день творения вода по повелению Божию произвела рыб больших и всякую душу пресмыкающихся (Быт. 1:21). Таким образом, вода в повествовании книги Бытия наделяется животворной силой: она сама, движимая словом Божиим, производит из себя жизнь. Точнее, эту жизнь творит Бог при помощи воды (Быт. 1:21: И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода). По словам Тертуллиана, вода есть стихия жизни: именно она «первой произвела живое, дабы при Крещении не казалось удивительным, что воды могут оживлять»[140].
Связь между водой и Духом Божиим – один из ключевых моментов в том «богословии воды», которое раскрывается на страницах Евангелия от Иоанна, в особенности в беседе Иисуса с Никодимом, и затем в произведениях раннехристианской литературы. Благодаря присутствию Духа Божия, говорит Тертуллиан, «природа вод, освященная святым, и сама получила способность освящать»[141]. Эту способность вода вновь приобретает всякий раз, когда над ней совершается призывание Духа Святого: «Любая вода благодаря преимуществам своего происхождения получает таинство освящения, как только призывается Бог. Ибо тотчас же сходит с небес Дух и присутствует в водах, освящая их Собою, и они, освященные таким образом, впитывают силу освящения»[142].

Апостол Петр. Рембрандт 1632 г
В Ветхом Завете вода рассматривается не только как стихия жизни, но и как орудие смерти, свидетельством чего является библейский рассказ о потопе (Быт. 7–8). Апостол Петр отмечает связь между сотворением мира и потопом: Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою (2 Пет. 3:5–6).
В библейском повествовании о потопе вода выступает сразу в двух качествах. Сначала при помощи воды происходит уничтожение ветхого, погрязшего в грехах человечества, но затем при помощи той же воды происходит обновление человечества и возрождение его к новой жизни. Этот рассказ с апостольских времен воспринимается как один из прообразов Крещения. Апостол Петр говорит о том, что Христос был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа (1 Пет. 3:18–21).
Выражение διεσωθησαν δι’ ΰδατος, переданное в Синодальном переводе словами спаслись от воды, буквально означает «спаслись через воду» («спаслись посредством воды»). Библейский потоп, таким образом, является прообразом очищения, получаемого в Крещении. По словам Григория Богослова, «благодать и сила Крещения не потопляет мир, как некогда, но очищает грех в каждом человеке и совершенно смывает всякую нечистоту и скверну, привнесенную повреждением»[143].

Пересечение Красного моря. К. Россели 1481–1483 гг
Другой ветхозаветный прообраз Крещения – переход Моисея через Чермное море: «Израиль крестился в Моисея в облаке и в море (1 Кор. 10:2), тебе давая прообразы и показывая ту истину, которая открылась в последние времена»[144]. Но повествование о потопе воспринимается также как прообраз Пасхи. Двойное значение символизма потопа в христианской традиции в значительной мере объясняется тем, что в ранней Церкви празднование Пасхи было одновременно днем Крещения.
Крещение Иоанново тоже прообразовало христианское Крещение. Разница между этими двумя крещениями соответствует разнице между символом и реальностью, между прообразом и его осуществлением. По словам Василия Великого, «Иоанн проповедовал крещение покаяния, и к нему выходила вся Иудея. Господь проповедует Крещение усыновления… То – крещение предначинательное, а это – совершительное; то – удаление от греха, а это – усвоение Богу»[145].
Сам Иоанн Креститель воспринимал свое крещение как подготовительное. Приходившим к нему он говорил: Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф. 3:11; Лк. 3:16). После Своего воскресения Иисус скажет ученикам: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым (Деян. 1:4–5). Под крещением Духом Святым автор книги Деяний понимает событие, произошедшее в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков (Деян. 2:1–4).
Сказав о том, как ветхозаветные образы понимались в раннехристианской традиции, мы несколько забежали вперед. Однако богословие Евангелия от Иоанна формировалось в ту пору бытия Церкви, когда практика крещения «во имя Отца и Сына и Святого Духа» уже имела широкое распространение и богословское осмысление этой практики уже осуществлялось в апостольской проповеди, в частности в корпусе писаний Иоанна и в посланиях апостола Павла. Через призму этой практики Иоанн рассматривал и те беседы Иисуса, которые приводит в своем Евангелии.