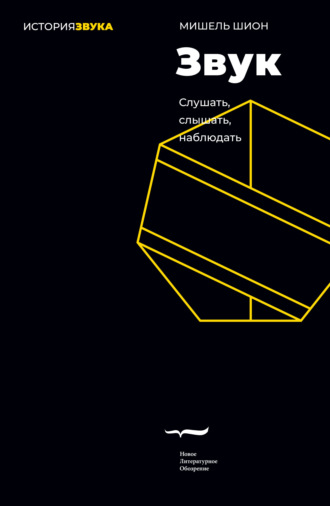
Мишель Шион
Звук: слушать, слышать, наблюдать
ЧАСТЬ II
Разделенный мир
Глава 4
ГОЛОС, ЯЗЫК И ЗВУКИ
1. Звук или голос как овеществленный остаток
Если и было открытие в лингвистике, перевернувшее ее судьбу, позволив ей наконец «взлететь», то это вывод о том, что в основе устной речи лежат не звуки, а фонемы, то есть система оппозиций и различий внутри определенного распределения звучаний.
1.1. Основанием языка являются не звуки
То, что Фердинанд де Соссюр сформулировал в своем «Курсе общей лингвистики» (составленном учениками по записям лекций 1906 и 1911 годов), сохраняет свою значимость и после всех последующих достижений современной лингвистики: «Звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал. <…> В еще большей степени это можно сказать об означающем в языке, которое по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно, и его создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов»41.
Это утверждение как нельзя более верно, но в то же время о нем часто забывают. Поэтому композиторы, пытающиеся работать непосредственно с языком на основе записанного на пленке текста, в котором они выделяли отдельные фонетические фрагменты, а потом пересобирали их (как например, Лучано Берио, начавший с нескольких фраз из романа «Улисс» в своем произведении 1958 года «Оммаж Джойсу»), не создали ничего значительного. Фонема, выделенная из слова, тут же становится звуковой материей, голосом, шумом, чем угодно, но она отрывается от всякой языковой принадлежности. Все напряжение опыта Джойса, особенно в «Поминках по Финнегану», этой утопии, цель которой – превратить мир и звук в нечто такое, что в то же время остается языком, растворяется в бесцельном звуковом леттризме, лишь только мы начинаем воспринимать его как слышимый звук, а не как написанный текст.
Это совершенно элементарное достижение, различение фонемы и звука, о котором упоминается в любом введении в лингвистику, по-прежнему игнорируется многими исследователями в области экспериментальной психологии, когда участникам эксперимента дают слушать изолированные тексты и фразы в записи, то есть звуки, делая такие выводы, словно бы речь шла о фонемах, и наоборот. Это позволяет нам оценить степень разобщенности между дисциплинами, которые так или иначе занимаются звуком.
Итак, фонема является не звуком, а абстрактной дифференциальной единицей.
С этого начинали две дисциплины, которым понадобилось определенное время на то, чтобы начать различаться: фонетика, которая «изучает звуки языка в их конкретной реализации, независимо от их языковой функции», и фонология, которая «изучает звуки языка с точки зрения их функции в системе языковой коммуникации»42.
1.2. Языковой звук не является образом его причины
Еще одним доказательством того, что язык далек от звука, стала работа Якобсона 1942 года «Шесть лекций о звуке и значении», в которой он показал, что традиционное учение ошибалось, когда намеривалось понять звуки языка путем изучения их материализации: «Акустические данные сами по себе не могут служить основой для установления внутренних членений между разными единицами в речевой цепочке: это возможно только с учетом языковой значимости этих данных»43.
Существование фонетических единиц базируется не на акустике, но и не на артикуляции, что расстраивает планы как тех, кто собирался изучать звук с точки зрения его образования, так и тех, кто хотел бы использовать лингвистические категории в других областях, не только для звуков языка, а как модель классификации звуков вообще.
Якобсон выводит отсюда, что исследование звуков языка с точки зрения их образования не имеет того значения, которое можно было бы ему приписать, полагаясь на здравый смысл или логику. То, что мы слышим, не является отпечатком того, что производится:
Но они полагали, что, изучая образование звуков вместо самих звуков, можно получить артикуляционный эквивалент акустического явления <…> Предполагалось также, что между этими двумя аспектами существует строгий параллелизм и что, имея систематическое описание данных физиологии, можно получить систематическое описание, совершенно адекватно отображающее данные акустики44.
Якобсон приводит разные примеры, опровергающие это представление. Еще в 1718 году некто Жюссьен опубликовал наблюдение одной девушки, у которой от языка сохранился только маленький отросток, но при этом она могла «безупречно произносить все звуки, которые сейчас в фонетике принято называть „язычными“». Говоря в целом, «если же один из органов, призванных участвовать в звукообразовании, не может справиться со своей функцией, он подменяется другим, причем слушающий этого не замечает», и «даже после потери передних зубов произношение свистящих не нарушится»45.
Для этого, правда, как уточняет Якобсон, вместе с другими авторами подчеркивая важность аудиоголосовой петли, необходим нормальный слух.
1.3. О теории выборки
Одна из лингвистических концепций представляет язык основанным на «отборе» из всего множества возможностей, представленных всеми звуками, которые способен издавать человек.
Такую теорию можно называть теорией выборки.
Так, в «Лингвистическом словаре» Ларусса мы читаем:
У каждого звука есть свои параметры частоты, интенсивности, долготы, но не всеми языками эти данности используются одним и тем же образом – каждый язык осуществляет особую языковую выборку (курсив наш – М. Ш.) качеств звуковой субстанции. Например, в некоторых языках различие в долготе не используется для различения значений. В других же, напротив, используется тот факт, что звук может издаваться в течение большего или меньшего времени, что позволяет различать означающие двух сообщений46.
Сами эти термины – выборка и использование – наводят на мысль о том, что «звуковая субстанция» является своего рода предсуществующим запасом, из которого можно что-то черпать. Но следует четко и ясно сказать, что нет такого совокупного множества звуков, которые бы существовали до всякой системы коммуникации или выражения. Звук открывается нам благодаря его постепенной проработке, не только средствами языка, но и музыки, кино, искусств, использующих звук, а также рефлексии, именованию и теоретизации. Многое в звуковой области еще только предстоит создать, и она никогда не исчерпывается до конца.
Языковой контекст, с точки зрения акуслогии, имеет то неудобство, если так можно выразиться, что при прослушивании сообщения он вызывает невосприимчивость к важным различиям в производстве звука, в его «произношении» – если только эти различия оказываются незначимыми для данного языка. Язык, в частности, мешает слушать в режиме редуцирующего слушания, поскольку в языке, который мы понимаем, мы членим речь на фонемы (которые сами не являются звуковыми), а не на звуковые единицы.
Если наш собеседник произносит типичную фразу, включающую много знакомых нам фонетических, семантических и прочих элементов, причем произносит ее в контексте, упрощающем их понимание, тогда мы в буквальном смысле не в состоянии услышать ее так, как она реально произнесена. Мы слышим текст, а не звуки: если собеседник «зажевывает» слог или даже целое слово, мы легко их восстанавливаем. Единственная составляющая, из которой мы способны извлекать звуки, – это общая мелодия голоса, его ритм, но каждый слог в его собственном качестве мы не слышим, настолько мы привыкли слышать тот, что должен встать на это место.
Та же самая процедура восстановления работает и в случае рукописного письма, которое нам удается расшифровать, если есть контекст (отсюда известный своей неразборчивостью почерк врачей в рецептах, каракули в которых практически нечитаемы для всех, исключая фармацевта). Но в этом случае отличие в том, что можно зрительно изолировать отдельную букву в пространстве, ведь письмо является устойчивым визуальным объектом, на изучение которого можно потратить определенное время. В случае же звука для этого понадобился бы монтаж, то есть техническая операция. И здесь мы снова попадаем в ловушку времени.
Важно, однако, то, что операция языкового «отбора» не затрагивает некоторый остаток, а именно голос. В традиционной концепции музыки то, что остается, то, что не отражается в нотной записи, – это тембр (см. главу 12). В обоих случаях голос или тембр превращается скорее в избыточный объект, заглушку, «объект а» в терминологии Лакана, то есть в овеществитель различия.
Психоаналитик Младен Долар в одной замечательной статье представляет миф о голосе в качестве «противовеса дифференциальности, поскольку дифференциальная логика всегда отсылает к отсутствию, тогда как голос кажется воплощающим в себе присутствие, твердую основу для различительных черт, позитивное основание для присущей им негативности». Далее он говорит: «Анализ голоса, намеченный фонологией, то есть фонологией как главным эталоном, самой парадигмой всякого структурного анализа, тем не менее сохранил его остаток <…> Только редукция голоса – во всей его позитивности – производит голос как объект»47.
2. Слышать голос в звуках
2.1. «Мне не нужно, чтобы звук говорил со мной»
В телепередаче под названием «Слух» американский композитор Джон Кейдж произнес следующие проницательные слова:
Когда я слышу то, что называют музыкой, у меня создается впечатление, что со мной кто-то говорит, говорит о своих чувствах, идеях. Но когда я слышу шум машин здесь, на Шестой авеню, у меня нет такого впечатления. У меня такое чувство, что звук действует (the sound is acting), и мне нравится его активность, он сильнее или слабее, выше или ниже, и это меня полностью удовлетворяет. Мне не нужно, чтобы звук со мной говорил.
В той же передаче Кейдж говорит, что он предпочитает звук тишины и что сегодня тишина для него – это звук дорожного движения, который всегда разный, тогда как музыка Моцарта или Бетховена, как он утверждает, всегда одна и та же. Кейдж, таким образом, не желает больше слышать о «песне» дождя, «шепоте» ручья, «плаче» ветра или какой-либо еще антропоморфической проекции на звук, рассматриваемый в качестве заместителя, представителя чего-то отличного от него, а именно голоса.
Замечание Кейджа находит у нас отклик потому, что оно затрагивает нечто очень глубокое: он не хочет слышать, как говорят звуки, поэтому ставит в центр своего дискурса и художественного подхода тишину, определяемую в качества звука, который не говорит, потому что, очевидно, с точки зрения Кейджа, здесь есть что-то такое, от чего надо убежать и отказаться. Звуки только и хотят, что говорить, – или, скорее, мы только и хотим, что спроецировать на них речевой вокал, артикуляцию, намерение.
Почему этого не происходит с шумом машин? Возможно, потому, что этот шум статистически гасит сам себя. Звук проезжающей машины, взятый обособленно, – это определенная история, то есть дискурс, нечто такое, в чем уже присутствует язык. Однако звуки разных машин перекрывают друг друга, создавая своего рода смазанный рисунок, который постоянно стирает сам себя, подобно шуму разговоров в кафе.
Если встать на краю дороги небольшого города в час пик, мы услышим не единообразный шум, а массу разных звуков, которые наслаиваются друг на друга и которые можно различить по тысяче разных признаков: типу автомобиля, его модели, состоянию мотора и глушителя; по разным расстояниям между машинами и по разным скоростям, которые постоянно рождают новый звук; по особенностям вождения, торможения, ускорения, рывкам, шуму сцепления, когда близится остановка или когда на светофоре загорается красный свет… Короче говоря, это совокупность вполне индивидуализированных звуков. Обязательная остановка на красный сигнал светофора не способствует упорядочению этого звука, поскольку, когда одни машины останавливаются, другие обычно трогаются.
Этот шум можно сравнить с «течением», «потоком», «рекой» (это частое сравнение) лишь в том случае, когда он слышится издалека, как гул, с другого берега реки или же на уровне окна верхнего этажа. Если же слушать его с близкого расстояния, он представляется цепочкой событий, которые гасят друг друга и в то же время в силу своего различия никогда не растворяются в одной коллективной массе. Каждый шум стирает другой, не слишком от него отличаясь, но и не повторяя его буквально.
Возможно, неслучайно, что звук дорожного движения становится настолько важным в последних фильмах Робера Брессона («Вероятно, дьявол» и «Деньги»), если вспомнить, что этот режиссер не выносил голоса, «резонирующие в пространстве», и благодаря своей особой работе с актерами при помощи постсинхронизации добивался того, что, едва прозвучав, звук голоса тут же поглощался. У Брессона герой торопится восстановить тишину, которую он своим голосом нарушил48.
На самом деле мы слышим свою речь не только изнутри, но и благодаря отражению звука нашего голоса, отправляемого нам пространством. Доказательством служит то, что когда нам случается говорить в месте, полностью лишенном эха, нам становится не по себе, мы чувствуем себя как будто голыми.
2.2. Антропоморфизм слуха?
Не только в древних мифах, в которых голоса складываются из шуршания листьев деревьев и журчания ручья, но также и у современных поэтов мы обнаруживаем этот антропоморфизм звука, против которого выступил не только Кейдж, но и часть деятелей современного искусства: «Les sanglots longs / Des violons / De l’ automne», – сказано в поэме Поля Верлена, который в другом месте пишет: «Le vent profond / Pleure on veut croire»49.
Эти примеры не сводятся к наивным разговорам о том, что ветер – тот, кто плачет. В первой цитате сравнение опирается на посредничество музыкального термина: скрипки плачут как голос, а ветер плачет как скрипки, которые плачут как голос. Во второй цитате фраза «хочется верить» (on veut croire) добавляет идею нерешительности, указывая на сознательный, волевой акт проекции слушающего субъекта.
Однако было бы ошибкой видеть в этом гилозоизме50, близком западной поэзии и доведенном до предела в философских идеях Виктора Гюго, всего лишь антропоморфизм. Эпоха или умонастроение, требующие наделять стихии голосами и чувствами или жалобами, означают, с точки зрения самой этой эпохи или этого умонастроения, не то, что все сводится к человеку, а наоборот, то, что человек лишается своей привилегии голоса.
2.3. Континуум звука и голоса
Иногда звук и голос составляют одно (неслучайно греческое слово phonē, от которого происходят все существительные, связанные со звукозаписью, означает просто «голос»), но иногда их различают, никогда при этом не проводя между ними четкой границы.
Считается, что в начале был голос – в Библии это голос Яхве, который изрекает: «Да будет свет». Затем в «Бытии» встречается еврейское слово, которое обычно транслитерируется как Qowl, а переводится на французский по-разному – как «голос» или «шум шагов». Характерно, что именно тогда, когда Адам и Ева вкусили от Древа познания, совершив тем самым грех, они услышали первый акусматический звук в истории, и при этом звук этот, судя по всему, был двусмысленным. Речь идет о «звуке» Бога, прогуливающегося во «время прохлады дня» в Эдемском саду, звуке, который заставляет наших прародителей осознать свою наготу и спрятаться.
Зато Лукреций в своей философской поэме «О природе вещей» не раз проводит различие между sonitus и vox, представляя голос в качестве особой категории: «Ибо и голос и звук непременно должны быть телесны, / Если способны они приводить наши чувства в движенье»51. Говорить – значит терять субстанцию, что доказывается тем, что по завершении «беспрерывной речи», длившейся с рассвета до заката, человек обессиливает: «Так что сомнения нет, что должны состоять из телесных / Голос и слово начал, раз наносят они пораненья». В то же время у Лукреция можно найти странное уподобление голоса и «музыкального звука», когда в качестве примеров грубого и мягкого голоса он приводит… вой трубы и мифическую скорбную лебединую песнь.
Итак, всякий звук, который слушается долго, становится голосом. Звуки говорят.
У Дёблина Калипсо говорит: «Когда, устав, я вижу сон, а руки мои играют с камнями как с мелкими животными, чтобы звенели они и откликались, я испытываю несказанную потребность спросить: “Чего хотите вы, маленькая труппа?“»52
Этот анимизм шумов возникает, вероятно, из‐за того, что лепет ребенка, его вокализация подхватывает все шумы, интериоризирует их, присоединяет к непрерывному внутреннему голосу. «Слушание собственной речи» – процесс, сопровождающийся «зашумлением», а потому и подражательным процессом «слушания собственного шума», в котором ребенок интериоризирует шумы и преобразует их.
В таком случае не может быть абсолютного различения, четкой границы между «слышать» и «слышать себя». Не склонен ли ребенок, которым мы когда-то были и который подражал шумам, слышать в любом шуме, достигающем его ушей, подражание, вокализацию, которую он мысленно образует?
3. Слово и звук: ономатопея
3.1. Пульсирующее исчезновение
Вместе с языком, рожденным из «убийства вещи», служащим обману и сублимации отсутствия, звук и зачастую слово становится тем «пустым сосудом», «вибрирующим исчезновением», о котором часто говорит Малларме, например, в своем предисловии к «Трактату о слове» Рене Гиля: «Я говорю цветок! И, вне забвенья, куда относит голос мой любые очертания вещей, поднимается, благовонная, силою музыки, сама идея, незнакомые доселе лепестки, но та, какой ни в одном нет букете»53.
Богатые рифмы, которые так любит Малларме, особенно в своих произведениях, написанных по случаю, и которые, сближаясь с игрой слов, занимают два, а то и три слога – рифмуя, к примеру, théière (чайник) с métayère (хуторянка), а se régale (наслаждается) с saveur égale (равный вкус), – подчеркивают пустоту в звуковом означающем, тщетное и насыщающее удовольствие от повторения того или иного звука в виде эха, позволяющего таким образом обмануть отсутствие.
3.2. Ономатопеи, язык и слушание
Отношения голоса и звука поднимают также вопрос ономатопеи и того, в какой мере язык, который каждый из нас выучил, а также его специфический набор подражательных слов, заставляют нас определенным образом слышать одни и те же более или менее интернациональные звуки.
Некоторые можно назвать универсальными: это лай собаки, мяуканье кошки, некоторые органические или естественные шумы, например, шум дождя, падающего на гравий или кальку, пусть даже не везде дождь падает с одной и той же силой, на одну и ту же почву или материал, и, конечно, звуки, связанные с определенным оборудованием или современными транспортными средствами, продающимися по всему свету, или же с общедоступными трансляциями, в частности с американскими сериалами.
Но слушание этих универсальных звуков определяется культурой, и не только из‐за собственно культуры каждой страны, которая отдает приоритет одним чувствам, превращая их в предмет поэзии, музыкального подражания и т. д., и игнорирует другие, но также и по причине ономатопей, которые обозначают определенные звуки, заставляя слушать их иначе, чем остальные.
3.3. Ономатопоэтические характеристики языка; кратилизм
Например, во французском низкий и высокий тон выражается за счет закрытых и открытых гласных, отсюда различие между clic (звяканьем) и clac (хлопаньем), tic и tac, plic и ploc (кап-кап).
Носовые звуки выражают резонанс и разные его варианты, более низкие или более высокие: ding как высокий звон и dong как более низкий – как в балладе о дуэли в «Сирано де Бержераке» Ростана.
В то же время бедность французского языка дифтонгами дает ему меньше, чем английскому, возможностей выражать непрерывные тонкие вариации: ономатопея miaou («мяу»), подражающая кошке, выглядит более однозначной, более стилизованной и менее развернутой, чем английские meow или miaow.
С другой стороны, склонность английского к односложности позволяет ему образовывать намного больше слов, близких к ономатопее, так что разрыв между ономатопеей и словом не настолько радикален, как во французском. В нем много таких глаголов, как splash (выплескиваться), crack (хрустеть), hiss (шипеть, свистеть), fizz (потрескивать) и т. д., отличающихся непосредственно ономатопоэтическими качеством и применением. Французское bourdonnement (гудение) – слово более длинное и абстрактное, чем английское buzzing, и то же самое можно сказать о craquement (хруст) в сравнении с crunching.
Феномен ономатопеи заставил некоторых авторов (одним из самых известных среди них был Шарль Нодье, автор «Словаря ономатопей») прийти к так называемому кратилизму – имеется в виду платоновский диалог «Кратил», в котором рассматривается этот вопрос. Речь идет о весьма стойкой теории, которая желает видеть в слове звукоподражание, непосредственно связанное с обозначаемым им понятием или вещью. Мы неслучайно отметили стойкость этой теории, ведь она упрямо сопротивляется всем урокам лингвистики, не признавая соссюровский постулат о произвольности языкового знака, а также все те ее опровержения, которые следуют из многочисленных исключений. Едва ли не все поэты и многие писатели в той или иной степени являются «кратилистами». Уже упомянутый Шарль Нодье, Поль Клодель, Джеймс Джойс, Мишель Лейрис, итальянские поэты-футуристы, а нередко и Малларме, например, открыто пишущий о досаде, которую он ощущает из‐за того, что французский язык не кратилистский: «Чувства мои <…> досадуют, что не в силах речь передать предметы теми, окраской либо повадкой им отвечающими, касаниями клавиш, какие в голосовом инструменте существуют в разных языках, а бывает, и у одного человека. Рядом с непроглядностью сумрака едва сгущается тьма; и – разочарование: извращенной волей наделены утро и закат, первое – звучанием темным, и, напротив, второй – светлым»54.
У того же Малларме небезынтересно почитать удивительный школьный учебник под названием «Английские слова», в котором наш поэт-преподаватель еще более откровенно увлекается кратиловскими идеями, связывая все слова с d или с t с определенными семействами смыслов и ассоциаций, созданных звучаниям этих согласных.
Жерар Женетт в одной из глав своих «Мимологик» («Путешествие в Кратилию»)55 перечисляет различные варианты этой традиции. Напомним, что кратилизм часто работает на двух разных уровнях – письменной речи и устной, то есть буква рассматривается в качестве визуального подражания тому, что обрисовывает слово, а звук – в качестве звукоподражания, причем два уровня связаны принципом письма, называемого (возможно, ошибочно) фонетическим.
Мечта об универсальности подражательных значений не забыта и в наши дни: например, работы Ивана Фонадьи, такие как «Дух голосов» 1983 года, посвященный вопросу о «психофонетике», показывают неистребимость этой идеи. Автор, в частности, пытается выделить универсальные константы: апикальный раскатистый r, по его мнению, всегда оказывается мужским, а l – женским56.
Это древний пример, поскольку он обнаруживается не где-нибудь, а в самом «Кратиле», где Сократ (во всяком случае тот, что выведен у Платона), согласившись со своим собеседником, что r в чем-то похоже на движение, грубость и перемену места, тогда как l связывается с чем-то «вежливым» и «мягким» (подтверждая, таким образом, древность архетипов, открытых Фонадьи), предлагает нам хитрый пример прилагательного sklēros, означающего «жесткий», хотя в нем и встречается пресловутая l. Сократ, признающий противоречие, а потому дающий уклончивый ответ, делает вывод вполне в духе Шеффера: «Мне и самому нравится, чтобы имена по возможности были подобны вещам <…>, но <…> необходимо воспользоваться и этим досадным способом – договором – ради правильности имен»57. Иначе говоря, часто решает именно узус.
Якобсон в своих «Шести лекциях»58 также напоминает о том, что оппозиция «l – r» отсутствует в корейском (и японском) языке. Что же тогда сказать о всеобщности оппозиции мужского и женского?
Как и со многими вещами, касающимися звука, здесь мы оказываемся в промежуточном пространстве, в своего рода колебании, но вместо того, чтобы вывести из него ленивый релятивизм, попробуем понять, с какой точностью функционирует это колебание и на что оно указывает.


