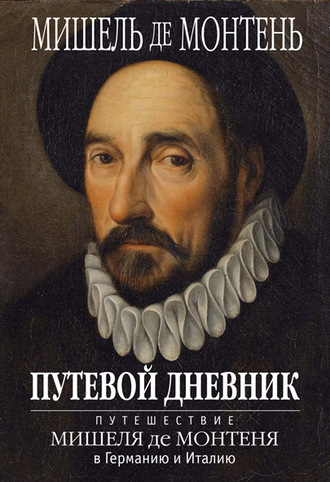
Мишель Эке́м де Монтень
Путевой дневник. Путешествие Мишеля де Монтеня в Германию и Италию
То, что мы обычно говорим об особом стиле Монтеня, касается только «Опытов». Он не нуждается в том, чтобы его оправдывали стилем «Дневника», поскольку в этом последнем дается лишь картина новых мест, посещенных Монтенем, и как он ведет себя в каждом из них: это картина, которую торопливо, без малейшей заботы о тщательности набросал путешественник, совершенно не стремивший приукрасить факты, а лишь делавший набросок для себя самого, и где мы видим, по крайней мере, следы нескольких тамошних впечатлений.
Таким образом, чтобы никого не обманывать – поскольку чтение этого «Дневника» может отвратить людей манерных, сделавших для себя принципом вкуса читать только произведения, написанные языком, похожим на их собственный, или же тех, кого знакомство с «Опытами» так и не смогло даже в малейшей степени приучить к монтеневскому жаргону, – он опубликован вовсе не ради них. Мы уже дали понять, что в нем не найти многочисленных описаний архитектуры, живописи и скульптуры, которые являются главной материей почти всех новых путешествий. Не стоит также ожидать тех политических или литературных отступлений о народах и правительствах Италии, которые придают некоторым описаниям столь ученый вид, и еще менее тех истрепанных шуток о монахах и простонародных суевериях, которые никогда не надоедают по большей части иностранцам, а среди наших – не самым образованным вольнодумцам. Монтень действительно наблюдал, но писал здесь вовсе не для того, чтобы это читал кто-либо вне круга его семьи[32], а чтобы развеять скуку домоседа или отвлечься от злобных поступков своих современников; в этом повествовании он следовал исключительно собственному вкусу, изображая в зависимости от обстоятельств предметы и события, чем-нибудь особо привлекшие его внимание, не привязываясь педантично к чему-то одному в ущерб другому.
Но вот что сделает «Дневник» интересным для читателей, которые ищут в этих записках человека: он даст возможность узнать автора «Опытов» даже гораздо лучше, чем сами «Опыты». Это кажется немного парадоксальным, поэтому перейдем к доказательствам. Хотя в «Опытах» Монтень так много и так часто говорит о себе самом, его подлинный характер тонет во множестве черт, которые могли бы сформировать стройное целое, но их не всегда легко точно подогнать друг к другу или же заключить в какие-либо общие рамки, подобно тому как с помощью оптического стекла объединяют разрозненные детали некоторых картин, чтобы из этого получилась в итоге некая правильная фигура. А это доказывает, что одних «Опытов» Монтеня недостаточно, чтобы его узнать, для этого важно собрать разнообразные суждения о нем[33]. Здесь мы видим уже не писателя, и даже не в наиболее холодный момент его наименее обдуманного сочинительства; этот человек и есть сам Монтень – без всякого умысла, без всяких прикрас, целиком отданный во власть своей природной импульсивности, своей простодушной манеры думать спонтанно, своих самых внезапных, самых свободных движений ума, желания и т. д. Мы ограничимся теми из фактов этого «Дневника», которые дадут об авторе (и особенно о его философии) более верное представление, нежели все вынесенные о нем суждения[34].
Из всех мест Италии, достойных привлечь внимание Монтеня, Лорето менее всего можно заподозрить в том, что ему будет любопытно его увидеть. Тем не менее он, проведший в Тиволи всего полтора дня, задержался в Лорето почти на целых три.
Правда, часть этого времени ушла на заказ и изготовление богатого Ex voto[35] – серебряной таблички с четырьмя фигурами (изображавшими Пресвятую Деву, перед которой стояли на коленях он сам, его жена и дочь), а также на выпрашивание места для своего подношения, которое он получил лишь благодаря превеликой милости. Он там молится и выполняет религиозные обряды, что, быть может, удивит еще больше, чем само путешествие сюда и даже его Ex voto. Если бы автор научного сочинения о религии Монтеня[36], которое недавно увидело свет, прочитал «Дневник», который мы публикуем, он извлек бы оттуда самые сильные доказательства в пользу его христианства, посрамив всех тех, кто ошибочно почитает в нем ниспровержителя религии, словно они, несмотря на весь скептицизм философа[37], умудрились не заметить его веру в двадцати местах «Опытов» и словно его неизменная неприязнь к новым сектам не была разительным и совершенно недвусмысленным доказательством этого, как заметила «духовная дочь» Монтеня, м-ль де Гурне, его наилучшая защитница[38]. Однако в том, что касается Монтеня, достоинств «Дневника»
все это ничуть не умаляет; там имеются кое-какие странности и факты, которые мы не найдем больше нигде. Именно это и будет видно из анализа, представленного ниже на суд читателей и в некотором смысле способного заменить собой краткое содержание.
V
Путешествие, в которое мы собираемся пуститься или попросту обозначить его маршрут, от Бомона-на-Уазе до Пломбьера в Лотарингии не предоставляет ничего достаточно любопытного, чтобы остановиться по пути. Да и в самом пребывании Монтеня в Пломбьере, где он в течение нескольких дней лечился водами, было мало замечательного, кроме наивного свода правил, составленного ради поддержания порядка на этом подробно описанном курорте, да встречи с пегобородым сеньором из Франш-Конте по имени д’Андело, который по приказу Филиппа II был комендантом Сен-Кантена после взятия этого города доном Хуаном Австрийским. Так что надо доехать до Базеля, описание которого знакомит с его тогдашним физическим и политическим состоянием, равно как и с его водами. Этот проезд Монтеня через Швейцарию – отнюдь не малозначащая подробность. Мы видим, как наш путешественник-философ повсюду приноравливается к нравам и обычаям страны. Гостиницы, печи, швейцарская кухня – ему все годится; похоже даже, что весьма часто нравы и обычаи мест, через которые он проезжает, для него гораздо предпочтительнее нравов и повадок французов, а тамошняя простота и искренность были намного более сообразны с его собственными. В городах, где останавливался Монтень, он старался повидаться с протестантскими богословами, чтобы основательно ознакомиться с главными положениями их вероисповедания. Порой он даже спорил с некоторыми из них. По выезде из Швейцарии мы видим в Исни, имперском городе, его схватку с неким убиквистом. Он будет встречать на всем своем пути лютеран, цвинглиан и т. д., но заметит большую неприязнь к кальвинизму, на что прежде не обращал внимания. Во время своего пребывания в Аугсбурге, городе уже значительном, он изобразит нам потерну – обходной путь в него, описание которого, хоть и не слишком внятное, возможно, заинтересует механиков. Здесь нам предстоит с интересом наблюдать, как он приспосабливается к обычаям городов касательно своего внешнего облика, чтобы не бросаться в глаза. Но вот черта, которая не ускользнет от тех, кто будет судить Монтеня так же, как судили Цицерона, – по его столь заурядным слабостям, от чего и в более простые времена философия не избавила ни Платона, ни даже Диогена[39]. Он не может удержаться от этой потребности тешить свое мелкое тщеславие, когда замечает, что его приняли за французского сеньора высокого ранга. И ему снова предъявят счет за эту столь упорную суетность, когда она заставит его оставить картуш со своим гербом на водах в Пломбьере, на водах Лукки и в других местах. Похоже, Монтень только проезжает через Баварию и мало говорит даже о Мюнхене.
Но когда он поедет через Тироль, стоит присмотреться к нему среди гор и ущелий этого живописного края, где ему понравилось гораздо больше, чем во всей стране, оставшейся у него за спиной. Он еще и потому чувствовал себя здесь так хорошо, что его совершенно понапрасну пугали неудобствами, которые якобы ждут их на этом пути. Это даст ему повод сказать, «что он всю свою жизнь остерегался чужих суждений об удобствах иных стран, поскольку каждый способен воспользоваться ими лишь в согласии с требованиями собственной привычки и обычаев своей деревни, так что весьма мало прислушивался к предостережениям других путешественников». Он остроумно сравнивает Тироль с платьем, которое видят только смятым, но если его разгладить, это окажется весьма большой страной, потому что все горы тут возделаны и населены многочисленными жителями. Итак, он въехал в Италию через Тренто.
Прежде всего Монтень спешил повидать не Рим, не Флоренцию или Феррару: Рим слишком известен, говорил он, «и нет такого лакея, который не смог бы сообщить что-нибудь о Флоренции или Ферраре». В Роверето он заметил, что ему начинает недоставать раков, потому что после Пломбьера на протяжении почти всей дороги через Германию в двести лье ему подавали их на каждой трапезе. Повидав озеро Гарда, он поворачивает в сторону государства венецианцев. И проезжает последовательно через Верону, Виченцу, Падую, сообщая о каждом из этих городов больше или меньше подробностей. Очевидно, Венеция, куда он так стремился «из-за острейшего желания увидеть этот город», разочаровала его, совсем не совпав с его представлением о ней, поскольку он осматривает ее очень поспешно и надолго там не задерживается. Тем менее она все-таки восхищает его, во-первых, своим положением, затем Арсеналом, площадью Сан Марко, общественным устройством, толпами оказавшихся там иностранцев; наконец, пышностью, роскошью и большим количеством куртизанок определенного ранга. Минеральные воды Баттальи побуждают его сделать первое отвлечение и осмотреть тамошние купальни. Затем по очереди платят дань его любопытству Ровиго, Феррара и Болонья, но поскольку он делает там лишь краткие остановки, то мало распространяется об этих городах. Он держит направление на Флоренцию и для начала посещает несколько вилл великого герцога. Довольно подробно описывает сады и воды Пратолино. Во Флоренции нашлось чем занять его, однако мы не видим, чтобы он, прельстившись великолепием Медичи, стал большим поклонником этого города. Во Флоренции он даже говорит, что никогда не видел народа, в котором было бы столь же мало красивых женщин, как в итальянском. Жалуется также на жилье и плохую еду, сожалея о немецких гостиницах. Будучи здесь, он ставит Флоренцию гораздо ниже Венеции, немного выше Феррары и на равных с Болоньей. Тут найдется также немало подробностей насчет телесных пропорций правившего тогда великого герцога, равно как и о его дворцах. Следует описание Кастелло, другой виллы того же правителя, откуда он едет в Сиену. Далее Монтень оказывается во владениях Церкви и, проехав через Монтефьясконе, Витербо, Рончильоне и т. д., 30 ноября 1580 года въезжает в Рим.
Представление о великолепии и блеске древнего Рима (уже известное из приведенного выше отрывка) он даст, изучая его величавые останки, однако любопытно добавить к этому картину, написанную им с современного ему Рима.
«Этот город – сплошь придворные и знать: тут каждый участвует в церковной праздности[40]… это самый открытый для всех город мира, где на инаковость и национальные различия обращают внимания менее всего, ибо он по самой своей природе пестрит чужестранцами – тут каждый как у себя дома. Его владыка объемлет своей властью весь христианский мир; подсудность ему распространяется на чужестранцев как здесь, так и в их собственных домах; в самом его избрании, равно как и всех князей и вельмож его двора, происхождение не принимается в расчет. Венецианская свобода градоустройства и польза постоянного притока иноземного люда, который тем не менее чувствует себя здесь в гостях. Ибо это вотчина людей Церкви, их служба, их добро и обязанности». Мне кажется, что сквозь старомодный язык тут можно заметить и несколько довольно новых идей.
Монтеню очень нравилось в Риме, и его пребывание в этом городе за время первого путешествия продлилось около пяти месяцев. Тем не менее он сделал признание: «…несмотря на все мои ухищрения и хлопоты, мне удалось познакомиться лишь с его публичным ликом, который он обращает и к самому незначительному чужестранцу». И досадовал, обнаружив там столь большое количество французов, что не встречал почти никого, кто не обратился бы к нему с приветствием на его родном языке. Послом Франции в Риме был тогда г-н д’Абен. Монтень, который на всем протяжении своего «Дневника» проявляет большое уважение к религии, решает, что обязан отдать понтифику дань сыновнего почитания и благоговения, принятую при этом дворе. Г-н д’Абен делает свое дело. Он отвез Монтеня и сопровождающих его (в частности г-на д’Эстиссака) на папскую аудиенцию; они были допущены поцеловать ноги папы, и святой отец обратился к Монтеню, призвав его и дальше хранить неизменную верность Церкви и служению христианнейшему королю[41].
Папой, как уже было сказано, был тогда Григорий XIII, и его портрет, написанный рукой Монтеня, который не только видел его вблизи, но и был весьма осведомлен на его счет, оставаясь неподалеку во все время своего пребывания в Риме, – возможно, один из самых правдивых, самых надежных, которые только доступны нам. В нем ничто не упущено.
«Это очень красивый старец, среднего роста, осанистый, лицо с длинной седой бородою исполнено величия; ему более восьмидесяти лет, но он вполне здоров и силен для своего возраста, насколько это возможно, и не стеснен никаким недугом: ни подагры, ни колик, ни желудочных болей; по природе своей он мягок, не слишком интересуется делами мира сего[42], великий строитель, и как таковой оставил по себе в Риме и других местах необычайно благодарную память; это великий, я даже скажу, несравненный благодетель… Что до обременительных государственных обязанностей, то он охотно сбрасывает их на чужие плечи, всячески избегая этой хворобы. Аудиенций он дает сколько, сколько просят. Ответы его коротки и решительны, а пытаться оспаривать их – пустая трата времени. Он верит в то, что почитает справедливым, и не поступился этой своей справедливостью даже ради собственного сына[43], которого необычайно любит. Он продвигает своих родственников [но без какого-либо ущерба для прав Церкви, которые нерушимо блюдет. Не считается с затратами при строительстве и преобразовании улиц этого города], и на самом деле его жизнь и нравы во всем далеки от крайностей, хотя гораздо более склоняются к хорошему».
После этого мы видим, как Монтень использует в Риме все свое время на пешие и конные прогулки, на визиты и всякого рода наблюдения. Церкви, торжественные службы (стояния), даже процессии, проповеди; потом дворцы, вертограды (то есть виллы с парками), сады, народные гулянья и забавы, карнавальные развлечения и т. д. Он не пренебрегал ничем. Видит обрезание еврейского ребенка и описывает всю операцию с обилием подробностей. На стоянии в церкви Святого Сикста встречает посла из Московии, второго, кто прибыл в Рим после понтификата Павла III; у этого посланника имелись депеши от своего двора в Венецию, адресованные Великому наместнику Синьории. Московитский двор поддерживал тогда так мало сношений с другими державами Европы и там были так плохо о них осведомлены, что полагали, будто Венеция – владение папы.
Ватиканская библиотека, которая уже в то время считалась богатейшей, была слишком привлекательной, чтобы ускользнуть от внимания Монтеня; и из отчета, сделанного об этом, видно, что он стремился бывать там почаще. Без сомнения, именно там он встречает Мальдоната, Мюре и подобных людей, ставших ныне такой редкостью. Он с удивлением отмечает, что г-н д’Абен уехал из Рима, так и не увидев эту библиотеку, потому что не хотел расшаркиваться с ее кардиналом-библиотекарем. На что Монтень делает замечание, в котором весьма узнаваем его стиль: «У случая и своевременности имеются свои исключительные права, и нередко они предоставляют народу то, в чем отказывают королям. Любопытство подчас мешает само себе, и так же бывает с величием и могуществом».
Для по-настоящему любопытного человека один только Рим представляет собой целую вселенную, которую хочется обойти; это своего рода рельефная карта мира, где можно увидеть в миниатюре Египет, Азию, Грецию и всю Римскую империю, мир древний и современный. Если ты достаточно видел Рим – ты много путешествовал. Монтень отправляется посмотреть Остию и древности, которые попадутся по дороге, но это была всего лишь краткая экскурсия. После чего он сразу же возвращается в Рим, чтобы продолжить свои наблюдения.
Быть может, кое-кто найдет, что не слишком достойно такого философа, как Монтень, повсюду с немалым любопытством наблюдать за женщинами, но эта естественная склонность была составной частью его философии и при этом совершенно ничего не исключала из всей нравственности рода человеческого[44]. В Риме ему попадалось мало красивых женщин, и он заметил, что наиболее редкая красота находится в руках тех из них, кто выставляет ее на продажу[45]. Тем не менее вскоре он призна́ет, что римские дамы обычно приятнее наших и тут не встретишь стольких уродин, как во Франции, однако добавит, что француженки все-таки грациознее.
Из всех подробностей пребывания Монтеня в Риме та, что касается цензуры его «Опытов», отнюдь не является наименее странной и способна очень сильно заинтересовать любителей его творчества.
Maestro del sacro palazzo (Магистр Священного апостолического дворца) вернул писателю его произведение подвергнутым каре согласно мнению ученых монахов. «Совершенно не понимая нашего языка, он смог судить о книге только со слов какого-то французского братца и удовлетворился множеством извинений, которыми я рассыпался на каждом пункте “порицаний”, оставленных ему этим французом, так что он предоставил моей собственной совести исправить те места дурного вкуса, которые я сам там найду. Я же, наоборот, умолял его, чтобы он следовал мнению того, кто об этом судил; и кое в чем признаваясь, как то: в использовании слова фортуна, в упоминании поэтов-еретиков (то есть осквернителей), в том, что я извинял Юлиана Отступника и строго увещевал молящегося, говоря, что тот должен быть свободен от порочной склонности к сему веку (quod subolet Jansenisnum[46]); item[47] признавал жестокостью все, что выходит за пределы простой смерти[48]; item что ребенка надо воспитывать, приучая его делать все, и другие подобные вещи, которые я написал, поскольку так думал, не предполагая, что это ошибочно; но утверждал, что в других высказываниях корректор неверно понял мою мысль. Сказанный Maestro, ловкий человек, сильно меня извинял и хотел дать мне почувствовать, что сам он не слишком настаивает насчет переделки, и весьма хитроумно защищал меня в моем присутствии от своего сотоварища, тоже итальянца, который со мной спорил».
А вот что произошло во время объяснения, которое у Монтеня состоялось у Магистра Священного дворца по поводу цензуры его книги, когда перед своим отъездом из Рима он зашел к этому прелату и его товарищу, чтобы откланяться. Те повели с ним уже совсем другие речи. «Они попросили меня не обращать большого внимания на цензуру моих “Опытов”, поскольку другие французы уведомили их, что в ней много глупостей; и они добавили, что ценят мои намерения, приверженность Церкви и мою честность, а также мою искренность и добросовестность и что они предоставляют мне самому убрать из моей книги (буде я захочу переиздать ее) то, что я сочту там слишком вольным, и среди прочего некстати подвернувшиеся слова. [Мне показалось, что они остались весьма довольны мной]: и чтобы извиниться за то, что так курьезно оценили мою книгу и кое в чем осудили ее, сослались на многие книги нашего времени, написанные кардиналами и другими духовными лицами весьма хорошей репутации, которые тоже подверглись цензуре из-за нескольких подобных несовершенств, которые ничуть не умалили ни репутации автора, ни произведения в целом. Меня попросили даже помочь Церкви моим красноречием (это их собственные любезные слова) и сделать вместе с ними своим жилищем этот мирный город, избавленный от смут и тревог».
После столь умеренного приговора Монтень, разумеется, не стал слишком торопиться с исправлением своих «Опытов». Впрочем, как мы уже замечали, это был вообще не его случай. Он охотно добавлял, но ничего не исправлял и не выбрасывал, так что может показаться, будто у нас обе первые книги «Опытов» остались такими же, какими были до римской цензуры, за исключением добавлений, которые он туда внес.
Еще более настоятельным для Монтеня интересом, который, похоже, очень его занимал, была некая милость, которой ему помог добиться папский дворецкий Филиппо Музотти[49], проникшийся к нему необычайной дружбой и привлекший ради этого даже авторитет самого папы: мы говорим о звании римского гражданина, которое столь странным образом льстило его самолюбию или воображению, но о котором мы не можем умолчать. Добившись этого звания, он более не медлил, чтобы покинуть Рим. До этого он съездил в Тиволи, и сделанное им сравнение вод и природных красот этого очаровательного места с такими же водами и красотами виллы Пратолино и некоторых других отмечено вполне обоснованным вкусом. Выехав из Рима, Монтень направился в Лорето. Он проехал через Нарни, Сполето, Фолиньо, Мачерату и другие городки, о которых ограничивается всего парой слов. Еще будучи в Лорето, он собирался поехать в Неаполь, который был не прочь повидать. Осуществлению этого путешествия помешали обстоятельства. Если бы он все-таки совершил его, одному богу ведомо, как долго ему пришлось бы задержаться на водах Байи и Пуццоли. Наверняка именно перспектива посетить воды Лукки заставила его сменить направление. Мы видим, что из Лорето он направляется прямиком в Анкону, Сенигаллью, Фано, Фоссомброне, Урбино и т. д. Снова проезжает через Флоренцию и, не задерживаясь там, поворачивает к Пистойе, городу, зависевшему от Лукки. Наконец в мае 1581 года он прибывает в Баньи делла Вилла, где и останавливается, чтобы заняться водолечением.
Именно там Монтень сам себе назначил пребывание и использование этих вод самым неукоснительным образом. Отныне он говорит только о том, как принимает их каждый день, одним словом, о своем режиме, не опуская ни малейшего обстоятельства, касающегося своих физических привычек и ежедневных процедур: питья, приема ванн, душа и т. д. Мы читаем уже не дневник путешественника, а памятные записки больного, внимательного ко всем мелочам всестороннего лечебного процесса, к малейшим результатам его воздействия на собственный организм и к своему самочувствию; наконец это словно весьма обстоятельный отчет, который он дает своему врачу, чтобы проконсультироваться у него о своем состоянии и действии вод. Правда, отдаваясь всем этим скучным подробностям, Монтень предупреждает: «Поскольку в свое время я раскаялся, что не писал подробнее о других водах, что могло бы послужить мне правилом и примером для всех, с кем я могу увидеться впоследствии, то на сей раз я хочу распространиться об этой материи пошире и зайти дальше». Однако наиболее убедительный для нас довод состоит в том, что он писал это лишь для себя. Хотя мы и здесь найдем немало черт, время от времени живописующих и это место, и нравы страны.
Наибольшая часть этого довольно длинного отрывка, то есть всё его проживание на водах и остаток «Дневника» вплоть до первого городка на обратном пути во Францию, где Монтень слышит французскую речь, написана по-итальянски, потому что он хотел поупражняться в этом языке. Так что для тех, кто не понимает этого наречия, его здесь пришлось переводить.
Впрочем, описание довольно долгого пребывания на водах Виллы и сухость записок о ходе лечения несколько оживляются описанием деревенского бала, который он там устроил, и невинным флиртом, которым при этом забавлялся. Можно даже счесть весьма поучительным его внимание к Дивиции, бедной неграмотной крестьянке, которая при этом была не только поэтессой, но к тому же обладала даром импровизатора. На самом же деле он признается, что из-за малого общения с местными жителями совсем не поддерживал репутацию остроумного и ловкого человека, которая за ним закрепилась. Тем не менее он был приглашен, и даже весьма настоятельно, присутствовать на консилиуме врачей, собравшихся ради племянника некоего кардинала, потому что они решили прислушаться к его мнению. И хотя он подсмеивался над этим в душе[50]́, подобные вещи неоднократно случались с ним и на этих водах, и даже в Риме.
Чтобы сделать некоторый перерыв в лечении, Монтень решает отдохнуть от вод и заезжает в Пистойю, потом в третий раз возвращается во Флоренцию и проводит там некоторое время. Наблюдает различные шествия, состязания колесниц, скачки берберских коней, странный смотр всех городов Великого герцогства Тосканского, представленных оруженосцами самого непрезентабельного вида. Находит в книжной лавке Джунти «Завещание Боккаччо» и сообщает о его главных распоряжениях, которые показывают, до какой нищеты дошел этот писатель, еще и ныне столь знаменитый. Из Флоренции Монтень заезжает в Пизу и дает ее описание. Но, не заходя дальше, заметим здесь, что он может показаться излишне доверчивым в отношении чудес, слухи о которых итальянцы весьма охотно распространяли, и что его философия в этом пункте отнюдь не всегда достаточно тверда. Он некоторое время проводит в Пизе и из любопытства посещает местные воды, после чего возвращается в Лукку, задерживается там и заодно описывает этот город. А из Лукки возвращается в Баньи делла Вилла, чтобы продолжить водолечение. Одновременно с этим возобновляет собственную термально-диетическую историю и ведет подробный отчет о своих лечебных процедурах, хворях и т. п.
Из-за этого столь пристального и неослабного внимания Монтеня к своему здоровью, к самому себе можно было бы заподозрить у него тот крайний страх смерти, который, вырождаясь, превращается в малодушие. Мы полагаем скорее, что эта боязнь была вполне соразмерна явлению, которого тогда очень опасались как раз из-за его грандиозности, или же, быть может, он думал как тот греческий поэт, чьи слова приводит Цицерон: «Я не хочу умирать, но когда умру, мне это будет довольно безразлично»[51]. Впрочем, надо просто подождать, чтобы он сам весьма ясно объяснился на сей счет:
«Было бы слишком большой слабостью и малодушием с моей стороны, если бы, будучи уверен, что в любом случае погибну таким образом[52] и что смерть с каждым мгновением приближается, я не сделал бы усилия, перед тем как это случится, чтобы смочь вытерпеть ее без труда, когда придет время. В конце концов разум советует нам с радостью принимать благо, которое Богу угодно ниспослать нам. Однако единственное лекарство, единственное правило и единственное знание, пригодные, для того чтобы избежать всех зол, осаждающих человека со всех сторон и в любое время, какими бы они ни были, это решиться либо претерпеть их по-людски, либо пресечь мужественно и быстро»[53].
Он все еще был на водах Виллы, когда 7 сентября 1581 года, прочитав присланное из Бордо письмо, узнал, что чуть меньше месяца назад, 1 августа, его избрали мэром этого города. Эта новость заставила его ускорить свой отъезд из Лукки, и он отправился в путь по римской дороге.
Вернувшись в Рим, он проводит здесь еще некоторое время, подробности чего мы видим в «Дневнике». И здесь же[54] получает письма от членов городского совета Бордо, которые официально уведомили его об избрании в мэрию этого города и пригласили прибыть туда как можно скорее. Он уехал из Рима в сопровождении молодого д’Эстиссака и некоторых других дворян, которые проводили его довольно далеко, но никто за ним не последовал, даже спутник по странствию.
На его пути, где он оказался зимой и проделал его весь, несмотря на свое слабое здоровье (поскольку у него по-прежнему время от времени выходили вместе с мочой камни или песок), лежали Рончильоне, Сан Квирико, Сиена, Понте а Эльса, Лукка и Масса ди Каррара. Ему очень хотелось проехать через Геную, но он решил отказаться от этого по причинам, которые излагает в «Дневнике». И выбирает дорогу через Понтремоли и Форново, оставляя в стороне Кремону. Приезжает в Пьяченцу, краткое описание которой дает. Осматривает Павию и ее знаменитый монастырь, которые описывает достаточно бегло, проезжает через Милан, не задерживаясь там надолго, и через Новару и Верчелли прибывает в Турин, который изображен настолько убогим, что его совершенно невозможно узнать. Мон-Сени[55], Монмельян, Шамбери упоминаются всего лишь росчерком пера. Он проезжает через Бресс[56], прибывает в Лион, город, который ему очень понравился своим видом; это единственное, что он о нем говорит. После Лиона пересекает Овернь и верхний Лимузен, чтобы въехать в Перигор; и через Перигё добирается до замка Монтень – longæ finis chartæque viæque[57].
P. S. Мы заканчивали печатать это предисловие, когда г-н Каперонье, хранитель Королевской библиотеки, получил из Бордо письмо, касающееся родословия Монтеня, и захотел поделиться его содержанием. Это письмо сообщает нам, что в Бордо до сих пор существует семейство по имени Монтень и оно в точности то самое, к которому принадлежал и автор «Опытов». Вот это родство:
«Мишель де Монтень был сыном Пьера Экема, сеньора де Монтеня, мэра города Бордо.
У этого Пьера было трое братьев, двое из которых умерли, не оставив потомства. Третий, Реймон Экем де Монтень, сеньор де Бюссаге, приходился, следовательно, Мишелю де Монтеню дядей с отцовской стороны. Он женился на Адриене де ла Шассень, от которой имел пятерых детей, в том числе и Жоффруа Экема де Монтеня, сеньора де Бюссаге, советника бордоского парламента, как и его отец. Именно от этого Жоффруа и происходит дом Монтеней, в настоящее время существующий в Гиени, последний отпрыск которого женился на м-ль де Галато».
Автор письма, г-н де ла Бланшери, уверяет, что написал его, лишь имея подтверждающие документы перед глазами.
В Библиотеке дю Вердье, в томе II, на стр. 143 (издание г-на Риголе де Жювиньи, Париж, 1773), мы находим, что одновременно с автором «Опытов» жил некий председатель Монпелье по имени Монтань: «Это был человек ученый, – пишет библиограф, – который написал еще не изданную Историю королевы Шотландии (явно Марии Стюарт)». Однако непохоже, чтобы он был из того же рода, и дю Вердье имеет большую заботу различать их.



